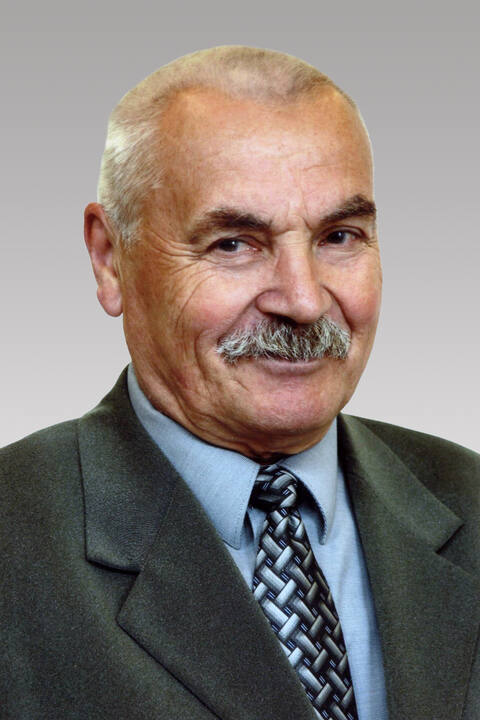Самые прочные связи создаются сваркой
После Томского политехнического института я стажировался на комбинате «Маяк» в Челябинске, а в Красноярске-26 работал инженером, старшим инженером, руководителем группы надзора в период строительства и монтажа реактора и атомной станции.
На работу в Мелекесс я приехал в 1963 году из Красноярска-26 (ныне Железногорск) по предложению Владимира Ивановича Клименкова, и немаловажную роль сыграл факт назначения в НИИАР главным инженером Александра Романовича Белова, моего бывшего начальника, за которым кадры потянулись со старого места.
В НИИАРе меня назначили руководителем группы сварки. Со мною вместе в эту группу вошли Евгений Александрович Крылов, техник Геннадий Дмитриевич Трусов, сварщик Олег Николаевич Волосников. Занимались оборудованием и сваркой, учились сами и обучали других, создавая команду сварщиков отделения материаловедения и института. Сваркой я начал заниматься еще в Красноярске, но здесь, в НИИАРе, всё начинали с нуля, пришлось создавать и установки, и инструменты, и многое другое, необходимое для нормальной деятельности.
К тому моменту реактор СМ уже был пущен, готовились к пуску радиохимического корпуса. Перед нашей группой поставили задачу — создать технологию сварки-сборки мишеней на основе нептуния-237. Мишени предназначались для накопления далеких трансурановых элементов, начиная с плутония-238, и затем всех остальных. Важность этой работы заключалась в том, что она была для нас пионерской. Мы загружали нептуний в мишени, которые потом облучались в реакторе СМ, а затем поступали к химикам для получения трансурановых элементов. Для решения сложных производственных проблем нашу группу объединили с лабораторией, возглавляемой Юрием Васильевичем Чушкиным.
После разработки технологии ампулирования нептуния-237 возникла задача по ампулированию плутония-240, но уже не для нашего реактора, а для действующего в институте имени Курчатова. Мы справились и с этим. По сути, тогда была организована цепочка по изготовлению мишеней для накопления трансурановых элементов. Интересно, что уже тогда использовалась вибротехнология: в мишени с помощью вибраций засыпалось топливо в виде таблеток, в виде металла, что было ново не только для НИИАРа, но и для страны. Хотя подобные работы велись в Курчатовском институте и в Челябинске, но дистанционная технология изготовления мишеней была создана именно у нас. Сердечником для мишени занимались Геннадий Алексеевич Стрельников, Юрий Николаевич Лузин, Евгений Константинович Ионов. Основная задача заключалась в снаряжении таблетки в оболочку, а затем — качественно заварить, проверить и отдать на облучение в реактор. На основе этой технологии мы выдали техзадание для создания в институте нового подразделения для работы с ураном, плутонием, и трансплутониевыми элементами, включая подготовку сердечников, оболочек, технологию их загрузки и постановки в реактор для облучения.
Шел 1975 год. После Владимира Ивановича Клименкова начальником объекта был назначен Михаил Антонович Демьянович. Это неординарный человек, и про него хотелось бы сказать особо. За два-три месяца при нём в нашем отделении материаловедения был создан образцовый порядок, пущена «горячая» часть, проводились работы по накоплению трансплутониевых элементов. После Михаила Антоновича объект возглавил Сергей Николаевич Вотинов, который предложил мне пост своего заместителя по технологии, и я согласился. Через год моего заместительства пришла проектная документация пристроя к существующему зданию, так называемый технологический корпус — то, о чем мы думали раньше: мощное здание для работы с трансплутониевыми, урановыми и другими мишенями, предназначенными для облучения в реакторах. К тому времени у нас уже были работы по изготовлению источников на основе плутония-238, кюрия, калифорния-252.Опыт показал, что такое производство требует строгой радиационной безопасности, отдельного здания — как раз к этому времени пришла документация, и в течение двух лет здание было построено.
На смену С. Н. Вотинову пришел Евгений Федорович Давыдов, а мне было предложено перейти заместителем начальника по технологии на новое здание. В это время на пуск реакторной установки БОР-60 приехал министр Ефим Павлович Славский, который предложил открыть новую тему и проверить гипотезу накопления плутония в реакторах на быстрых нейтронах. Но для этого необходимо было делать новую активную зону на реакторе. Директор НИИАРа Владимир Андреевич Цыканов удивил министра, сказав, что для изготовления активной зоны с виброуплотненными твэлами для реактора БОР-60 специалистам нашего института потребуется 2 года. Славский в присутствии Цыканова спросил у меня: «Вот ваш директор утверждает, что в течение двух лет вы можете сделать виброуплотненные твэлы». Я ответил: «Раз директор говорит, значит — сделаем!». И началась работа по созданию виброуплотненных сборок для БОР-60.
Надо сказать, что материаловедческий комплекс НИИАР — это уникальный комплекс, в России таких больше нет. Он совмещает в себе цепочки камер для работы с мощными нейтронными источниками и цепочки боксов — для малоактивных элементов. Владимир Андреевич принял решение о создании технологического отдела в отделении материаловедения, куда вошли лаборатории металлокерамического топлива (начальник Геннадий Алексеевич Стрельников, а позже — Николай Николаевич Николаев), металлургическая лаборатория (начальник Николай Степанович Косулин), лаборатория сварки (Евгений Александрович Крылов). Возглавить отдел предложили мне.
Работы велись в двух направлениях. Первое — создание нейтронных источников на основе калифорния-252, который поступает к нам из радиохимического отделения. Также нам дали изготовление мишеней для накопления калифорния на основе нептуния-237, плутония-238 и т.п. К тому времени в мире имелся приличный опыт по облучению мишеней и по созданию изделий на их основе и у ядерщиков, и у химиков. Мы тогда впервые в России сделали электрокардиостимулятор для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на основе плутония-238. Сам сердечник изготовили в лаборатории Н. С. Косулина, а заварили в оболочку и проверяли сварщики. Поскольку ведущие по этому направлению организации находились в Москве (позже они трансформировались в В/О «Изотоп»), то и отправляли первые изготовленные источники в столицу. Медики проверяли их действие на собаках.
Участвовали мы и в работах, связанных с проблемой создания искусственного сердца. По сути, это — маленький моторчик на основе изотопа плутония-238. Почему именно плутоний? Имея период полураспада 90 лет, он, распадаясь, высвобождает тепловую энергию. Если эту энергию преобразовать в электрическую, то получится «вечный» двигатель. Ну, пусть не 90, а 50 лет он работать будет, пока плутоний распадается.
Второе большое направление работ — изготовление вибротвэлов на основе плутония-239 для активной зоны реактора БОР-60. В течение двух лет было изготовлено 24 ТВС — задание министра мы выполнили.
По техническому заданию, разработанному технологическим отделом отделения материаловедения и учеными (Г. А. Стрельников, Ю. В. Чушкин, В. Н. Сюзев), была создана установка «Орел», а потом здание химико-технологического отделения, вобравшего все идеи, проверенные прежде у нас.
В 1983 году была создана лаборатория сварки, на которую возлагались функции определения политики по сварке во всем институте. Мне повезло стать начальником этой лаборатории.
Новой задачей, поставленной перед нами, была сварка облученного материала. На объектах атомной промышленности немало металлоконструкций, которые после облучения требуют сварки. Облученные материалы от необлученных отличаются, как старый износившийся пиджак от нового, и требуют особого отношения. Конечно, мы не были новаторами в сварке облученных материалов, и до нас с 50-х годов проводились ремонтные работы, но о сварке облученных материалов именно наш институт впервые заявил через журнал «Сварочное производство» (правда, параллельно с нами американцы сообщили о своих аналогичных разработках).
Направление сварки облученных материалов в 70-х годах определил корифей по исследованию эффектов после облучения материалов в реакторах Сергей Тихонович Конобеевский. Как-то в разговоре он заметил: «Есть интересная тема для научной работы — электродуговая сварка в камере». Ю. В. Чушкин представил ему нас с Крыловым и сказал: «Вот молодые люди, которые в будущем этим займутся». Мы тогда переглянулись и подумали: «Что-то не то говорит старик». И только лет через 10 поняли, насколько это актуальное и нужное дело. Когда Е. А. Крылов защищал свою диссертацию, мы уже публиковали первые работы о сварке в камере облученных материалов. Ну, а в итоге был создан участок сварки облученных материалов. Много было сделано в этом направлении. Виктор Васильевич Бровко защитил диссертацию на тему «Сварка облученного материала».
В 1993 году руководство пришло к решению об организации отдела главного сварщика. Он был создан и до сих пор благополучно существует. Мы осуществляем все работы, связанные со сваркой в НИИАРе. Реактор является сварной конструкцией, трубки сварные, трубопроводы 1-го, 2-го, 3-го контуров — сварные. Сварки очень много, и ГАН в своих нормативных документах четко предусматривает, что контроль за сварными соединениями должен быть безукоризненным в целях безопасной работы всей реакторной техники.
В настоящее время службу главного сварщика возглавляет кандидат технических наук Евгений Табакин. В службе работают специалисты-профессионалы Геннадий Владимирович Мирошниченко, Николай Александрович Костюченко, Анатолий Александрович Митрюшин, Юлия Витальевна Иванович, Виктор Анатольевич Скачков и многие другие. Именно они определяют в институте политику в области качества сварки, новых технологий, оборудования, обучения сварщиков.