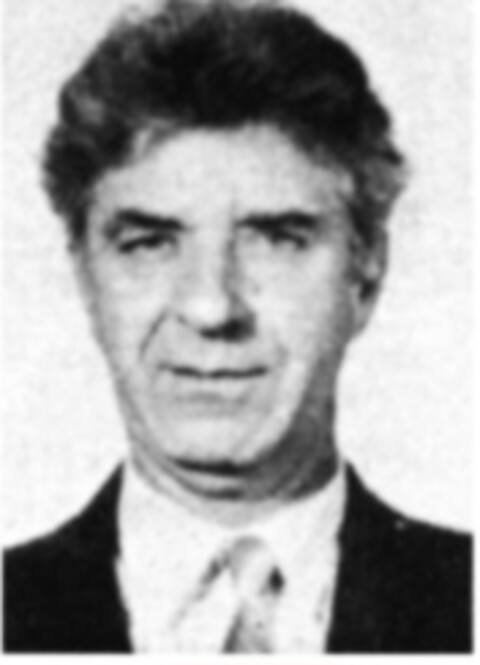Первое изобретение
Перед началом дипломного проекта нас, студентов группы металловедения МВТУ имени Баумана, вдруг вызвали в деканат. Это было настолько неожиданно, что мы сразу стали вспоминать, не допустили ли какого-то крупного нарушения дисциплины. Вспомнили, что две недели назад мы все, кроме китайцев, которые учились в нашей группе, предпочли пойти в кино вместо лабораторных занятий. В деканате нас встретили куратор факультета и незнакомый человек, который, отобрав несколько студентов (среди них оказался и я), сказал, что он представитель «почтового ящика» и предложил заполнить анкеты для распределения к нему на работу. На какую именно работу и в какой город — ответа не последовало. Но был выложен самый важный для нас козырь: «Вы будете иметь самую высокую зарплату, которую могут предложить молодому специалисту-инженеру».
В этой ситуации смущало то, что распределить могли в любой город СССР, независимо от места постоянного проживания. Нам раздали анкеты, приказали их заполнить, после чего представитель почтового ящика ушел. Куратор факультета многозначительно и полушепотом сказал, что с нами беседовал представитель Министерства среднего машиностроения, в котором проводятся работы, связанные с атомной энергией, где сосредоточены самые лучшие научные кадры — корифеи науки и промышленности, и где даже кладовщиками, хранящими секретные материалы и сплавы, работают люди с высшим образованием. С ощущением такой раздвоенности: с одной стороны, обещание высокой зарплаты, с другой — боязнь не соответствовать требованиям «лучших научных кадров» и работать кладовщиком — мы и разошлись.
Вскоре состоялось официальное распределение, и всем отобранным дипломникам, в отличие от других, было названо без возможности выбора предприятие — почтовый ящик такой-то. Отказаться от предложенного распределения было равносильно недопущению к защите диплома, исключению из комсомола и массе других неприятностей. После защиты диплома группа металловедов, сварщиков и обработчиков посетила Старомонетный переулок, где располагался Минсредмаш. Там уже знакомый нам представитель почтового ящика отправил нас в «хозяйство Бочвара», кратко рассказав, как туда добраться. В МВТУ кафедру металловедения основал А. М. Бочвар — отец А. А. Бочвара, и меня обрадовало, что руководитель «хозяйства» тоже металловед.
В те годы «хозяйство Бочвара» — НИИ-9 или почтовый ящик 3394 — находилось на окраине Москвы, при этом автобусы до предприятия не ходили. Когда я после долгих блужданий оказался около территории, окруженной высоким бетонным забором, без каких-либо вывесок и названия, я растерялся. Выручил меня мальчик на велосипеде: он хотя и не знал, где п/я 3394, но сказал, что за забором НИИ-9.
Попав на территорию института, я был подавлен: по пропуску вход осуществлялся не только в сам институт, но и в корпуса на его территории, да еще сообщение между корпусами осуществлялось по подземному тоннелю. Что еще более меня поразило — на территории института я увидел полного человека в форме летчика в звании полковника. Это был Г. Я. Сергеев, который шел и разговаривал с человеком высокого роста с богатой рыжей шевелюрой — С. А. Займовским. Меня направили в группу В. М. Залкина, где начальником лаборатории Л-23 был Л. И. Цупрун, на монтаж стендов для коррозионных испытаний в жидком натрии различных материалов. Натриевые стенды располагались в отдельном одноэтажном здании — газгольдерной, где сейчас расположено здание ПЭО. В монтаже стендов принимала участие группа молодых инженеров и аппаратчиков под руководством молодого специалиста — выпускника МИФИ А. Г. Иолтуховского.
Первое производственное задание, порученное мне, — покрасить металлический стеллаж. Это поручение вызвало у меня внутренний протест: разве для такой работы нужно было учиться 6 лет в институте, изучать кучу предметов и сдавать экзамены? Но вспомнив напутствие декана, что выпускники МВТУ не должны гнушаться никакой грязной работы, я переборол себя и покрасил стеллаж. Когда я закончил покраску, весь перемазанный краской, и стал от нее оттираться, прибежал начальник группы Залкин и сказал, что нужно срочно убраться в стендовом зале, так как сейчас для знакомства с работой натриевых стендов придет сам А. А. Бочвар. Начался аврал, но в тот день никто так и не пришел.
Прошла неделя. В один из дней после неудачных попыток запустить стенд мы слили из стенда натрий в стендовые бочки, остудили его и начали снимать нашу противопожарную спецодежду. В этот момент неожиданно на стенд зашел Бочвар в сопровождении Займовского и Залкина. Залкин начал рассказывать Бочвару о работе стенда, а Займовский подошел к нашей отдельно стоящей группе и стал тихо задавать вопросы — кто что закончил и давно ли мы здесь работаем. Ему отвечали, а я молча пожирал глазами академика и членкора, так как впервые в жизни близко видел людей столь высоких научных званий, о которых я знал лишь по учебникам и книгам по специальности. Вдруг Бочвар жестом руки остановил речь Залкина, быстро подошел к стенду и стал рассматривать электромагнитный насос для перекачки жидкого натрия. Начальник группы резко подбежал к Бочвару, схватил его за талию и стал отводить от стенда, громко повторяя: «Андрей Анатольевич, здесь натрий, нельзя подходить». Лицо Бочвара покраснело, и мне показалось, что он был смущен такой заботой: «Виктор Михайлович, вы же сказали, что стенд остановлен, а натрий слит и заморожен. В чем же дело?!». Эта попытка спасти Бочвара вызвала легкую улыбку Займовского, что еще больше смутило академика, он резко развернулся и, ничего не говоря, покинул стенд. Побледневший Залкин грозно окинул взглядом наши улыбающиеся лица, пошел следом за удаляющейся группой. В общем, мы ждали очередного разноса. Я был новичком, а остальные работали не менее полугода. Взаимоотношения членов группы с Залкиным, как потом я понял, были, мягко говоря, натянутыми, что было обусловлено как методами его руководства, так и объективными неудачами по введению в строй натриевых стендов.
Разнос мы, конечно, получили, и не один. Из-за не всегда квалифицированных указаний начальника группы нам приходилось заниматься многочисленными переделками стенда, что, естественно, не прибавляло энтузиазма в работе. Вспоминая прошлое, я сейчас более трезво оцениваю ту ситуацию: дело было новое, многие вопросы решались впервые и поэтому ошибки были неизбежны. И хотя стенды были введены в эксплуатацию, установленные сроки были сорваны. Неурядицы в работе, сменное дежурство — все это измотало членов группы, и мы пошли жаловаться к Займовскому. Он выслушал претензии аппаратчиков, которые в большей части касались бытовых вопросов (отсутствия раздевалки, душа и т.п.), пообещал разобраться и отпустил их, оставив инженеров. После этого он устроил нам выволочку, основная часть которой состояла в том, что государство учило нас продуктивно решать все вопросы и добиваться эффективного решения поставленных задач, а не хныкать и бастовать, идя на поводу младшего технического состава. Мы ушли, решив, что плевать против ветра не стоит. Однако через два месяца начальником установки натриевых стендов был назначен Иолтуховский, который в дальнейшем стал одним из ведущих специалистов по разработке коррозионностойких материалов в щелочных металлах. Залкин стал работать по тематике тугоплавких металлов, меня перевели к нему.
В то время в институте были довольно строгие режимные порядки. Рабочие помещения в конце дня опечатывали не только ответственные по комнатам, но и дежурные по лаборатории. Некоторые сотрудники задерживались, и приходилось ждать, когда они уйдут. Мне повезло — мое дежурство приходилось на субботу. Я еще плохо знал номера комнат лабораторий и где-то через час после окончания работы обнаружил, что одна из комнат на третьем этаже корпуса «В» еще не опечатана. Подождав 15 минут, я постучал в дверь этой комнаты, вошел и увидел Займовского, который сидел за письменным столом, заваленном книгами, и, насвистывая какую-то мелодию, писал. Увидев меня, он сказал: «А, бунтовщик, снова пришел жаловаться?». Я объяснил, что должен опечатать помещение, и спросил, как долго он еще задержится, ведь сегодня суббота. Выяснилось, что я перепутал и не должен был опечатывать его кабинет. Займовский стал расспрашивать, какой вуз я окончил, по какой специальности, кто читал лекции по спецпредметам, в какой лаборатории я работаю. Выслушав ответы, он посоветовал почаще ходить в техническую библиотеку и знакомиться с новинками литературы, которые выкладывали по средам. Поблагодарил за напоминание о субботе и начал собираться. В то время в лаборатории, где я работал, руководителями групп были Н. П. Агапова и М. И. Тарытина — женщины с довольно жестким характером, довольно мягкий начальник лаборатории Цупрун и менее мягкий Залкин. Опечатывая дверь своей комнаты, Займовский пошутил: «Да, в этой лаборатории собрался хороший руководящий коллектив: два мужика Агапова и Тарытина, и две бабы — Цупрун и Залкин».
Я занимался вопросами низкотемпературной хрупкости молибдена — темой, которая впоследствии стала моей кандидатской диссертацией. Проделав большую работу, я предложил методику выращивания монокристаллов молибдена для оболочек термоэмиссионных преобразователей (ТЭПов). Через некоторое время меня пригласили к Бочвару, и я впервые попал в кабинет Андрея Анатольевича. Он предложил сесть к его столу, на котором я увидел свой открытый отчет. Бочвар стал расспрашивать о подробностях и деталях научной разработки выращивания монокристаллов тугоплавких материалов. Внимательно выслушав, он поблагодарил меня и отпустил. Так после месяцев мучений я родил свое первое изобретение.
Хотелось бы отметить, что даже при жесткой конкуренции, существовавшей среди ученых, старшие коллеги очень чутко относились к молодежи, поощряли наше собственное мнение по научным вопросам, поддерживали наши начинания и стремления. При этом победители конкурсов могли рассчитывать лишь на дипломы и благодарности по институту. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время даже ежемесячные стипендии победителям конкурса молодых специалистов и надбавки к зарплате за учебу в аспирантуре не стимулируют молодых специалистов посвящать себя науке.