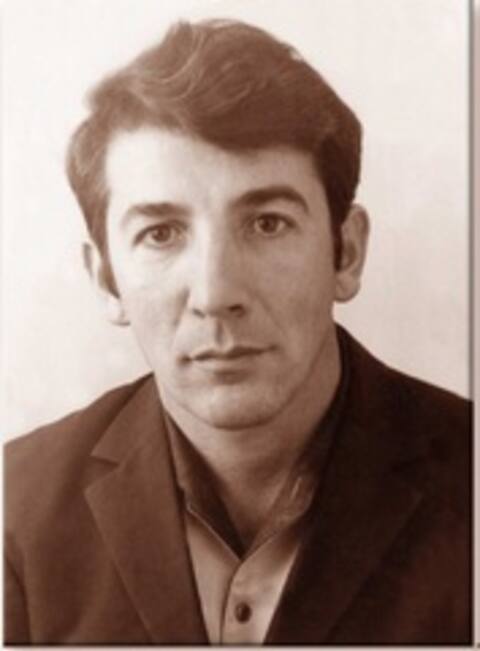Покорители Арктики
По образованию я инженер-механик по котельным установкам. Так записано в моем дипломе выпускника Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина. Получив направление на работу в апреле 1959 г. я прибыл в г. Горький в ОКБ машиностроительного завода им. И. В. Сталина (впоследствии — завод № 92). Но в ОКБ меня допустили лишь через три месяца после проверки анкеты. Чтобы я не «умер» с голоду, меня оформили на работу на завод в цех №5. Этот цех представлял собой завод в миниатюре, в котором были все виды холодной и горячей обработки металла, в том числе отделение термической обработки, кузница, литейное отделение и др. Трудиться меня направили в технологическое бюро цеха, где я в течение трех месяцев разрабатывал различные приспособления по рационализаторским предложениям, которые в большом количестве поступали от рабочих и служащих цеха. По моим эскизам и чертежам через короткое время приспособления изготавливались в цехе, и можно было наглядно убедиться в достоинствах и недостатках конструкции. Это была отличная школа для начинающего конструктора!
После цеха меня определили в ОКБ в компоновочный отдел, в бюро, которое занималось проработками предложений по Реакторным Установкам с органическим теплоносителем. Первые месяцы работы были посвящены освоению моей второй специальности — инженер-механик атомной энергетики. А ведь в годы учебы в институте мне даже в фантастическом сне не могло привидеться, что придется заниматься атомной энергетикой, хотя судьба мне об этом намекала. Еще в Ленинграде мне удалось побывать на «презентации» атомного ледокола «Ленин». В самом начале 1959 г. его вывели от причала Адмиралтейского завода в устье реки Невы и пришвартовали у Набережной напротив памятника Петру I. Тысячи ленинградцев посетили тогда ледокол с экскурсией. Думал ли я, прохаживаясь по палубам ледокола, что основную часть своей последующей трудовой деятельности придется посвятить ледокольному флоту и, в частности, а/л «Ленин»?!
Когда я устроился на завод, это как раз был такой период, когда еще не было отдельно ОКБ, было одно общее предприятие, но внутри предприятия было несколько конструкторских бюро. Завод был огромный. Он во время войны изготавливал пушки. Кроме того, он выпускал антенны, разные устройства для обнаружения разнообразных летающих целей.
Ну а я работал в КБ. Тогда было много отделов каждый отдел имел своею специфику. В частности, разрабатывались промышленные реакторы, ледокол «Ленин», перспективные реакторы с жидкометалическим теплоносителем, рабочий проект для РУ первого поколения атомных подводных лодок. Кроме проектной работы я вел производство и монтаж под наблюдением непосредственно специалистов нашего предприятия.
Первые полтора года работал в бюро, которое занималось реакторной установкой с теплоносителем свинец-висмут. Эти полтора года я не столько занимался проектированием, сколько освоением новой квалификации специалиста, изучал тематику по атомной энергии и все, что связано с ней, ведь я был инженер механик и понятия не имел об атомной энергии.
В общей сложности в ОКБМ я проработал 53 года. До самого ухода на пенсию я занимался многими вопросами, которые возникают при эксплуатации ледоколов и лихтеровоза «Севморпуть», много занимался испытаниями по программе продления ресурса службы ледоколов, разработкой инструкций по обслуживанию реакторной установки и оборудования.
Если вернуться в самое начало моей работы, то мне вспоминается 1959 год. 3 сентября был сдан ледокол «Ленин», реакторную установку для которого разработал именно наш отдел. Для этого ледокола была спроектирована — первая ядерно-транспортная установка. Это был первенец. Конструкция самой установки была достаточно сложная. Кроме того, оборудование: парогенераторы, насосы, — все это находилось не в компактном сочетании с установкой, а вне реактора. Главным конструктором был Игорь Иванович Африкантов. Ледокол успешно бороздил Северный Ледовитый океан, установка проработала 26 000 часов, всего 6 навигаций. Но, в 1964 году она пришла в такое состояние, что ремонт был невозможен.
В 1965 г. нашему отделу была дополнительно поручена большая и ответственная работа по созданию установки для новых мощных ледоколов типа «Арктика». По моей просьбе меня перевели в схемно-режимное бюро. Мое желание было вызвано тем, что в этом бюро была возможность значительно расширить круг решаемых вопросов и свои познания установок, которыми занимаешься. Мне было поручено курирование принципиальной схемы и разработка эксплуатационных инструкций по системе 1 контура и по другим системам РУ. За относительно короткий срок по этой установке был выполнен огромный объем проектных работ, НИР и ОКР. Большая напряженная работа, выполненная отделом и предприятием в целом по этой установке, позволила уже в 1967 г. закончить рабочий проект установки под индексом ОК-900. Было принято решение «обкатать» ее на а/л «Ленин», где к этому моменту закончила работу и была демонтирована первая РУ ОК-150. В 1968 г. были созданы и испытаны опытные образцы основного оборудования. В 1969 г. началась модернизация а/л «Ленин» на заводе «Звездочка» в г. Северодвинске, а в день столетней годовщины рождения В. И. Ленина в реакторе ОК-900 появились первые нейтроны. Эта установка явилась прототипом РУ ОК-900А, примененной впоследствии для серии атомных ледоколов типа «Арктика».
С атомного ледокола «Россия» началась новая серия ледоколов, на которых была установлена модернизированная установка ОК-900А спроектированная нашим отделом, в т.ч. и нашим схемным бюро, с максимальным использованием хорошо зарекомендовавшего себя оборудования установок типа ОК-900.
Важным этапом развития реакторных установок для гражданских судов явилась разработка однореакторных установок КЛТ-40 и КЛТ-40М для атомного лихтеровоза и двух ледоколов с ограниченной осадкой «Таймыр» и «Вайгач», предназначенных для проводки транспортных судов в устьях сибирских рек. Проекты этих установок были также выполнены нашим подразделением и другими подразделениями ОКБМ на основе использования модернизированного серийного оборудования, которое было разработано ранее для атомного ледокола «Россия».
Эксплуатация атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» в устье Енисея убедительно продемонстрировала своевременность их постройки, эффективность работы данных судов в этом регионе и их значительные экологические достоинства.
С особым интересом и вдохновением взялись специалисты ЦКБ «Балтсудопроект» и ОКБМ за проектирование самого крупного в мире ледокольно-транспортного судна «Севморпуть». В качестве РУ для лихтеровоза «Севморпуть» была принята однореакторная установка КЛТ-40, спроектированная на базе основного оборудования ОК-900, с учетом лучших технических решений, подтвержденных опытом эксплуатации атомных судовых установок. Впервые в этой установке была предусмотрена защитная оболочка (ЗО), удовлетворяющая современным требованиям безопасности, предусмотрена система защиты 1 контура от переопрессовки, система затопления ЗО и др. Решение применить на мелкосидящих ледоколах и на лихтеровозе «Севморпуть» однореакторную установку было обосновано безаварийной работой и высокой надежностью ледокольных установок ОК-900 и ОК-900А. Одним из непосредственных создателей лихтеровоза «Севморпуть» являюсь я. Кстати, Африкантов вел очень мудрую политику, он единственный первый в союзе решил, что те организации, которые разрабатывают реакторные установки должны иметь внутри отделы по направлениям: отдельно парогенераторы, отдельно реакторы, отдельно сузы, отдельно отделы по арматуре, отдельно отделы биологической защиты, отдельно расчетные отделы. И вот все эти структуры он здесь создал, и они все стали функционировать. Отдел, в котором работал я — это компановочный отдел, все оборудование компоновали в реакторную установку и дальше разрабатывали схемы и прочее.
Одним из самых замечательных периодов моей трудовой деятельности было участие в мероприятиях, посвященных освоению Арктики и покорению Северного полюса. Труднейшая задача, которую ставили перед собой первооткрыватели Земли, за несколько сотен лет обошедшие всю планету, все ее материки и океаны, — достижение полюсов Земли, двух ее «макушек».
На долю атомного ледокола «Арктика» выпала почетная роль встать в ряд первопроходцев планеты. Сданный в эксплуатацию в 1975 г., атомный ледокол, используя свою огромную мощь — 75 тысяч лошадиных сил, — два года успешно поработал на труднейших участках Северного морского пути, значительно удлинив период навигации.
«Арктика» под командованием капитана Ю. С. Кучиева вышла из Мурманска 9 августа 1977 года, прошла Баренцево и Карское моря, море Лаптевых и с 79º северной широты по меридиану взяла курс на север к полюсу, которого достигла 17 августа. Экипаж и участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду. Прозвучал салют из ракетниц. К основанию флагштока была прикреплена капсула с текстами проекта Конституции СССР, Гимна Советского Союза и списком членов экипажа атомного ледокола и научной экспедиции. За 15 часов, которые атомоход провел на полюсе, ученые выполнили комплекс исследований. Перед уходом с полюса моряки опустили в глубину Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР. Отсюда ледокол почти напрямую двинулся обратно в Мурманск, куда и пришел 22 августа, преодолев тысячекилометровое пространство сплошного льда. Всего за 13 дней!
Как раз в тот год условия не были сверхтяжелыми: выбрано самое теплое время года — на полюсе, например, был ноль градусов Цельсия. Правда, на трассе попадались и десятибалльные льды. Но ведь была проведена всесторонняя подготовка, тщательная авиационная ледовая разведка. Были опасения поломки лопастей — и они действительно ломались, — но моряки научились менять их на плаву с помощью водолазов.
По мнению Ю. С. Кучиева, совершить рейс на Северный полюс можно было и раньше. Просто руководство страны в те годы решило перестраховаться с достижением «макушки» Земли. А туда мог добраться и первый атомный ледокол «Ленин». Вероятно, боялись, что он может не дойти, поосторожничали — атомный ледокол был тогда единственный, да и имя носил обязывающее. Но Ю. С. Кучиев уверен, что «Ленин» дошел бы до полюса.
Важнейшую роль в подготовке рейса и своевременной отправке ледокола »Арктика» на Северный полюс сыграло участие специалистов ОКБМ, в том числе и нашего отдела. В конце июля 1977 г. после окончания перегрузки активной зоны реактора №1 на а/л «Арктика» шла ускоренная подготовка к вводу и ввод в действие реакторной установки №1. Дело в том, что в СМИ прошла информация о том, что в направлении к Северному полюсу дрейфует канадское судно, зажатое льдами, которое могло раньше, чем «Арктика» оказаться первым надводным судном, достигшим Северного полюса.
Уже в процессе ввода РУ до окончания разогрева было обнаружено нештатное повышение температуры воды 1 контура в верхних подшипниках всех четырех главных циркуляционных насосов 1 контура (ЦНПК). Разогрев был остановлен, установка была выведена из действия и расхоложена. После получения этого сообщения «мозговой центр», возглавляемый нашим бюро, после глубокого анализа, определил вероятную причину такого поведения параметров ЦНПК. Как показало дальнейшее расследование — в результате неправильного подключения персоналом баллонов газа высокого давления (ГВД) к системе 1 контура. На внутриконтурные конструкции воздействовал значительной величины гидравлический удар, в результате которого возник недопустимый перепад, между внутренней и наружной полостями рубашек холодильников ЦНПК. Это вызвало деформацию (раздутие), появление трещин на рубашках. Разгерметизация рубашек привела к увеличению расхода воды 1 контура через холодильник ЦНПК, соответствующему росту температуры воды в верхних подшипниках и выходу из строя всех ЦНПК. В Мурманск на базу для проведения консультаций срочно вылетели три специалиста ОКБМ.
Попытки демонтировать поврежденные ЦНПК из гидрокамер из-за «раздувшихся» рубашек насосов успеха не имели. Насосы удалось демонтировать лишь с помощью специально изготовленных отжимных болтов. Для замены вышедших из строя ЦНПК, к счастью, нашлись 4 новых насоса в ЗИПе. Однако один из насосов после предварительного подъема «сорвался» с крюка крана, упал на уплотнительную поверхность гидрокамеры и «выбил» кусочек металла. Для выведения дефекта с уплотнительного пояска гидрокамеры требовался специальный ремонт, который в сжатые сроки могли выполнить только специалисты ОКБМ. Осталась проблема с ремонтом гидрокамеры, с которой главный инженер управления ММП Л. Г. Данилов обратился в пятницу к Евгению Наумовичу Черномордику — первому заместителю — главному инженеру ОКБМ. Евгений Наумович в течение субботнего дня организовал вызов лучших сварщика и слесаря, Ивана Александровича Осипова и Анатолия Валентиновича Клюшенкова, которые в лаборатории ОКБМ на опытном образце гидрокамеры заварили, «притерли» специальным притиром и испытали аналогично выполненный дефект. На следующий день специалисты прилетели на базу (в место базирования атомных судов в Мурманске), благо самолеты летали каждый день. Прямо с аэропорта их доставили на ледокол «Арктика» в аппаратную защитной оболочки, и целую ночь они работали и выполнили необходимую работу на «отлично», после чего отдыхали целые сутки прямо на месте в каюте ледокола. Монтаж новых насосов, гидравлические испытания, функциональные проверки, разогрев и выход на энергетический режим РУ прошел без замечаний. Всего на определение причин, ремонт и замену четырех ЦНПК было затрачено 10 суток.
Когда проводилась модернизация атомного ледокола «Ленин», которая была проведена в рекордно сжатые сроки — за 38 месяцев, параллельно с изготовлением и монтажом установки ОК-900 шли изготовление и испытания опытных образцов оборудования и систем (реактор, парогенератор, ЦНПК, приводы системы СУЗ и др.), которые являлись одновременно и головными образцами. Испытания опытных образцов проводились, как правило, на специальных стендах в ОКБМ и на заводах-изготовителях и в основном прошли успешно, подтвердив проектные характеристики. Исключение составил парогенератор ПГ-18т, разработанный СКБК, испытания которого проводились на специальном стенде Адмиралтейского завода летом 1968 г. Опытный образец ПГ принимала МВК, в состав которой от ОКБМ был включен я. Первая неприятность выяснилась при выходе ПГ на номинальную нагрузку, при которой выдаваемый парогенератором перегретый пар не соответствовал спецификационной температуре (238°С вместо 290°С). Второй недостаток конструкции ПГ-18т проявился при проведении режима аварийного расхолаживания, когда основной разъем корпуса с трубной системой «раскрывался», выбрасывая часть теплоносителя в атмосферу. Приемная комиссия, возглавляемая А. И. Брандаусом (ЦКБ «Айсберг»), забраковала изделие. Ситуация осложнялась еще и тем, что заготовки корпусов парогенераторов в тот момент уже находились на станках Ижорского завода, а на заводе «Звездочка» из-за неготовности ПГ задерживался монтаж агрегата №1, в состав которого первоначально предполагалось включить и четыре парогенератора. Поэтому было принято решение агрегат №1 загрузить на судно без парогенераторов, а монтаж ПГ и приварку главных патрубков к реактору производить не в цехе, а непосредственно на ледоколе.
Для решения возникших проблем с ПГ на Балтийский завод на совещание к главному конструктору СКБК Г. А. Гасанову оперативно были вызваны И. И. Африкантов, Ф. М. Митенков, Н. М. Царев, члены межведомственной приемной комиссии А. И. Брандаус, А. К. Следзюк и я, а также представители ЦНИИ ТС-138.
Г.А.Гасанов вынес на рассмотрение совещания проработки нового узла уплотнения разъемного соединения корпуса ПГ с трубной системой с помощью уникального сварного шва (вместо уплотнения с помощью медной прокладки), не имевшего в то время прототипа. Это требовало дополнительного создания двух сложных приспособлений — станков для срезки и сварки этого сварного шва в случае замены трубной системы. Г.А.Гасанов сначала отказывался от проектирования этих станков, ссылаясь на отсутствие опыта и специалистов. Но И. И.Африкантов настоял на том, чтобы СКБК, учитывая допущенные им в конструкции парогенератора ошибки, нашло контрагентов, которые могли бы за короткий срок разработать, изготовить, испытать и сдать комиссии эти приспособления. В этот же день такой контрагент нашелся в лице ЦНИИ ТС‑138, который в последствии эту задачу и решил. Надо отдать должное смелости Г.А.Гасанова (пуск РУ ОК‑900 был намечен к 100-летней годовщине со дня рождения В.И.Ленина), который своевременно приостановил на Ижорском заводе механическую обработку разъемного соединения корпусов ПГ, чем спас заготовки от брака. СКБК нашло также решение, устраняющее паразитные протечки теплоносителя 1 контура в ПГ помимо трубной системы без существенных переделок ПГ, которые были причиной снижения температуры пара на выходе ПГ. На совещании все проработки СКБК были утверждены, и эскизы изменений конструкции опытного образца ПГ пошли прямо со щитков КБ в цеха, где в течение двух месяцев ПГ был доработан. Испытания парогенератора были продолжены и своевременно успешно завершены, что позволило без срывов сроков подготовить серийные парогенераторы и закончить монтаж установки ОК-900.
Весной 1970 г. начались швартовые испытания РУ ОК-900 на а/л »Ленин», в состав приемной комиссии помимо Ю.Н.Кошкина, З.М.Мовшевича, Э.М.Мельникова, входил и я. Кроме членов МВК от ОКБМ в испытаниях участвовала большая группа конструкторов и расчетчиков.
К большому сожалению, главным конструкторам И. И. Африкантову и Г. А. Гасанову не довелось дожить до того момента, когда 22.04.1970 г. реактор №2 ОК-900 проявил первые признаки «жизни», «задышал» и установка ОК‑900 начала свой долгий и успешный путь, который продолжался вплоть до вывода атомного ледокола «Ленин» из эксплуатации в 1989 году. 23 апреля 1970 г. в 2 часа 30 минут был закончен пуск реактора №2. Таким образом, задача, поставленная перед создателями новой установки, — ввести РУ ОК-900 в действие ко дню рождения В. И. Ленина — была выполнена.
Больше всего мне запомнилось два момента. Первый в 1987 году когда был сдан ледокол «Сибирь». Перед экипажем ледокола под командованием капитана З. А. Вибаха и экспедицией под руководством опытного полярника Героя Советского Союза А. Н. Чилингарова стояли две ответственные задачи: эвакуировать дрейфующую станцию СП-27 и организовать новую — СП-29. Станция СП-27 просуществовала три года, и на ней работали три смены полярников. Станция находилась в труднодоступном районе вблизи Северного полюса. Размеры и состояние льдины не позволяли осуществить там посадку самолетов, — она продолжала разрушаться и стала небезопасной для работы и жизни полярников. Требовалась срочная эвакуация. На его борту разместилась большая научная экспедиция. Для осуществления в период похода авторского надзора за установкой ОК-900А и оказания технической помощи в этом рейсе от ОКБМ участвовал я.
Можно было понять радость 14 полярников СП-27, проживших на льдине почти год, когда они увидели приближавшийся ледокол, прошедший от Мурманска 1320 миль, из них 1020 — во льдах. Последние мили ледокол преодолевал ударами, так как пришлось двигаться в сплошных тяжелых льдах четырехметровой толщины и торосах. В это время года в столь высокие широты не заходило еще ни одно надводное судно. На «СП» уже было отключено электричество, свернута телефонная сеть, упакована основная радиостанция. Только печи в домиках попрежнему дышали жаром, да шумели на них чайники. Существовало правило: кто больше суток находился на «СП», должны были поработать на «общий котел». Поэтому в эвакуации оборудования «СП» участвовали все: полярники, члены экипажа и экспедиции. Во время эвакуации СП-27 самолет ИЛ-24Н и вертолет МИ-8 провели ледовую разведку по направлению к Северному полюсу, до которого оставалось 212 миль. Она показала, что достичь Северного полюса можно за неделю. Быть рядом с полюсом и не побывать на нем — этого не простили бы себе ни моряки, ни члены экспедиции. И вот 25 мая 1987 г. в 15.59 по московскому времени ледокол «Сибирь» прибыл в географическую точку Северного полюса.
Второй раз в истории арктического плавания надводное судно достигло Северного полюса, над которым был установлен флагшток нашей Родины. В районе полюса ученые выполнили комплекс научных исследований. Стояла прекрасная круглосуточная солнечная погода, температура воздуха была около 0ºС. За учеными на лед «высыпали» все участники похода за исключением тех, кто стоял на вахте.
Было подготовлено футбольное поле, на котором состоялся матч между экипажем ледокола и «пассажирами» (за вторую команду играл и я), капитаном команды «пассажиров» был А. Н. Чилингаров.
Любители зимних купаний — «моржи» — с помощью буров организовали проруби, в которых с удовольствием купались. Было организовано «почтовое отделение» (начальник почтового отделения был помощник главного механика атомохода «Сибирь», бывший работник ОКБМ И.И.Африкантов), где на конвертах, открытках, книгах и т.д. проставлялись штампы с отметкой «Северный полюс, 25 мая 1987 г.», после чего специально изготовленный штемпель, капсулы со списком участников экспедиции, с письмом к будущему поколению, металлической памятной доской и специальной медалью были затоплены у подножья флагштока. Закончился праздник традиционным «хороводом» вокруг флагштока и салютом из ракетниц.
Затем ледокол взял курс на о. Диксон, где были высажены полярники СП-27 и взяты на борт груз и полярники станции СП-29. Наступил последний этап экспедиции, в течение которого ледокол через пролив Вилькицкого и море Лаптевых подошел к заранее выбранной льдине, находившейся восточнее островов Северная Земля. Разгрузка шла круглые сутки, было выгружено 360 т груза, затем состоялось торжественное открытие новой полярной станции — СП-29. 19 июня атомный ледокол «Сибирь» после 40 суток бесперебойного рейса возвратился в порт приписки Мурманск.
После этого высокоширотного похода а/л «Сибирь» появилась уверенность в реализации регулярных рейсов на Северный полюс. Так родился проект проведения коммерческих рейсов на Северный полюс с участием иностранных туристов.
Праздник с самой северной точки планеты впервые в мире транслировался в прямом эфире через систему спутниковой связи, причем репортаж вели вместе с известными журналисткой Инной Ермиловой и космонавтом Александром Серебряковым капитан а/л «Ямал» Андрей Смирнов и юные тележурналисты.
А второй момент, когда в 1988 году сдавался лихтеровоз «Севморпуть», который строился на Украине. Меня назначили ведущим инженером по проектированию и созданию РУ КЛТ-40 для лихтеровоза «Севморпуть». В начале ноября 1984 г. в г.Керчь в доке судостроительного завода «Залив» им. Б. Е. Бутомы состоялась торжественная закладка первой секции атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть». 20 февраля 1986 г. судно было спущено из дока на воду. Достройка его проводилась на воде вплоть до швартовых испытаний, которые прошли в октябре 1988 г. Последние 4 месяца до начала комплексных швартовых испытаний мне пришлось «сидеть» на заводе «Залив» в Керчи, где при температуре 50оС проходили заводские испытания РУ. Председателем межведомственной комиссии по приемке РУ КЛТ-40 был Б. П. Папковский. Меня, как члена МВК, назначили председателем секции ППУ. Реактор достиг критичности 26 октября 1988 г. 31 декабря после окончания ходовых испытаний лихтеровоза «Севморпуть» был сдан заказчику в эксплуатацию.
Судно получилось отличное, если бы не «вмешательство» заказчика, который решил «удешевить» стоимость судна, исключив из системы управления судном подруливающее устройство. Участвуя в первом рейсе, я смог убедиться, во что «вылилась» эта «рационализация».
Мощная энергетическая установка позволяет судну самостоятельно следовать во льдах толщиной до 1 метра. Винт регулируемого шага во избежание поломки лопастей о крупные льдины находится в стационарной направляющей насадке. Для выгрузки и загрузки лихтеров и контейнеров лихтеровозу не требуются оснащенные портовые сооружения, т.к. он оснащен грузовым краном финской фирмы «Коне» грузоподъемностью — 500 тонн.
По окончании ходовых испытаний в период с 10.01.89 г. по 03.03.89 г. был выполнен первый коммерческий рейс с 29500 тоннами груза, размещенного в 70 лихтерах из порта Одесса в порт назначения Вьетнам — Владивосток по маршруту: Черное море — проливы Босфор и Дарданеллы — Средиземное море — Гибралтарский пролив — Атлантический океан (вдоль западного побережья Африки) — экватор — мыс Доброй Надежды — Мозамбикский пролив — Индийский океан — Малаккский пролив — Сингапур — Южно-Китайское море — Тихий океан — Корейский пролив — Владивосток. Получалось почти кругосветное путешествие и в этом путешествии мне удалось поучаствовать!
Когда мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия в г. Владивосток, больше всего поразило, что у общественности города было неприятие лихтеровоза, это было вызвано не столько его потенциальной опасностью, сколько высокой стоимостью строительства атомохода и убыточностью его эксплуатации. Когда строительство атомного транспортного судна только задумывалось, его экономическая конкурентоспособность с судами, работающими на органическом топливе, не была главной целью. Основной задачей являлось изучение в реальных условиях возможности и целесообразности использования атомной энергии на транспортных судах. Это была попытка выхода на международные линии для отработки юридических и технических вопросов, относящихся к заходу атомного судна в иностранные территориальные воды и порты. Нужно было в повседневной работе проверить принятые технические решения, отвергая неудачные конструкции и находя наиболее рациональные варианты.
С шести лет я научился играть в шахматы. Эта игра стала моим «хобби» на всю жизнь. Еще школьником я участвовал в республиканских и всесоюзных соревнованиях по шахматам. В 1950 году я выступал за сборную команду Казахстана в командном первенстве СССР среди школьников, где за сборные Латвии, России, Москвы, Ленинграда, Украины и других республик Советского Союза играли будущие знаменитые гроссмейстеры: Михаил Таль, Борис Спасский, Лев Полугаевский, Виктор Корчной, Айвар Гипслис, Ефим Геллер и другие. Во время учебы в Ленинграде мне пришлось выступать на первой доске за Политехнический институт в командном первенстве вузов г.Ленинграда, где встречался с Борисом Спасским, Виктором Корчным и другими мастерами шахматной игры. Приехав в г.Горький, активно включился в шахматную жизнь, играя в первенствах города, области и спортивного общества «Труд» (куда в 1960-х годах входил ГМЗ и ОКБ) и других соревнованиях, выполнив разряд кандидата в мастера спорта по шахматам. С 1966 г. Министерство среднего машиностроения стало регулярно проводить личное и командное первенство, в которых я представлял ОКБМ (местком 205) с первого чемпионата. В нашей организации собралась группа очень сильных шахматистов и шахматисток: кроме меня, это мастер Г. К. Сорокин, гроссмейстер по переписке И. А. Морозов, кандидаты в мастера В. Кургузов, Ю.Клейменов, В.Рысин, Л.Плескова, Г.Темнова, Л.Гуськова (Ханова), Л.Слепнева.
Г.К.Сорокин и я в разные годы становились чемпионами области по шахматам. Наша команда (к/ф «Радуга») выиграла первый Всесоюзный командный шахматный фестиваль в г.Тирасполе, а мне удалось стать победителем первого Всесоюзного личного фестиваля в г.Бердянске. Участвовать во всех соревнованиях, в основном, приходилось во время своих очередных отпусков, а в городских — после работы.
С первого дня работы на заводе я на общественных началах организовал шахматную секцию. На улице Страж Революции, 15 начал функционировать шахматный клуб, где я тренировал детей, проводил соревнования среди сотрудников нашего завода и жителей Калининского поселка. Кроме игры в шахматы, в первые годы работы в ОКБ мне неоднократно приходилось участвовать в соревнованиях по футболу, настольному теннису, волейболу, лыжам и в других соревнованиях, проводимых в рамках спартакиады завода и к/ф «Радуга». Следует отметить заслугу нашего профкома и бессменного председателя к/ф «Радуга» В.А Панкова, вложившего много труда в строительство спорткомплекса «Радуга» и поддерживающего спортивно-физкультурную работу в нашей организации, ибо спорт и физкультура в нашей напряженной работе всегда были хорошим подспорьем.
В первые годы на производстве в нашем отделе в обеденные перерывы «процветала» игра в домино, помогавшая нам снимать «стрессы».
В перестроечные годы нашему отделу было поручено спроектировать автоматическую станцию в городе Белгороде. Там изготавливались пищевые добавки для животных, скота и птицы, вышло из строя производство и они обратились в ОКБМ с просьбой спроектировать такую станцию. Нашему отделу поручили проектирование. Ее спроектировали, изготовили и поставили, она заработала. Вместо зарплаты нам давали корма, которые там производили. Мы перезаключили договор с Кстовской птицефабрикой и эти корма поступали туда, а вот Кстовская птицефабрика за это нам давала кур и яйца. Таким образом нам давали зарплату курами и яйцами. Их прямо на проходной продавали. Вот, и такие были времена.
Моя жена приехала вместе со мной в г. Горький так же как и я поступила работать на завод №91, ее направили в компрессорный цех. Я пытался устроить ее к нам в конструкторское бюро, но не получилось.
После компрессорного цеха ее перевели конструктором в бюро по проектированию разных установок для газа, энергетических новшеств и она успешно работала там, постоянно находилась на доске почета. Когда я предлагал ей перейти к нам в ОКБ, она отказалась. Так она там всю жизнь и проработала до самой пенсии.
Я очень часто отсутствовал дома, был по 6 месяцев в командировках и жена, практически, одна вырастила сына и дочь. Мой сын окончил Политехнический институт, радиотехнический факультет. Поступил в ОКБМ, какое-то время работал в отделе автоматики, потом пошел по общественной линии, его выбрали сначала комсоргом организации, потом он стал секретарь райкома. Во времена перестройки, когда начался кризис, он ушел из ОКБМ. В то время многие уходили из ОКБМ. Ушел он в предприниматели.
Дочь закончила физтех, диплом писала у нас в отделе, но работать в ОКБМ она не стала. Вышла замуж, но у них не было своих детей, взяли из приюта ребенка и у нее сейчас уже растет внук.
Интерес к атомной отрасли резко спал, это связано с международной обстановкой и негативным отношением к России. По сравнению с тем как мы начинали, обстановка не очень хорошая. С Украиной прекратились все отношения. Кстати, КЛТ-40 была предназначена для всяких нужд, можно было и плавучую станцию делать, и было много заказов, но потом в связи с международной обстановкой, перестройкой почему-то это все затихло. Только станцию «Академик Ломоносов» будут ставить на Певек.
Сейчас все все-таки понимают, что без атомной энергии никуда не деться, остальные источники тепла, к сожалению, не восполняют все необходимые нужды. Люди напуганы и в тонкости не лезут, а те, кто соображает, Франция и многие другие развитые страны спокойно к этому относятся. Многие страны строят и спокойно к этому относятся. Потихоньку люди поймут, что без атомной энергии нет будущего. Я думаю, у атомной энергии есть перспектива.
Я лично вижу перспективу и в атомном судостроении. Ледоколы очень развиваются. А подводный флот — это наш ядерный щит.