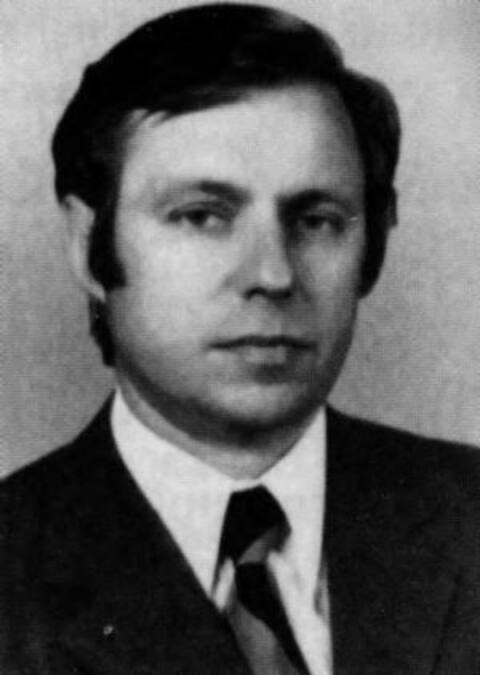Закон Сарова: о работе — ни слова!
В феврале 1955 года нас, трех студентов 5 курса факультета «Вооружение самолетов» Московского авиационного института, вызвали в кабинет декана, где представитель кадровой службы Минсредмаша предложил нам заполнить объемистые анкеты. На вопросы, где и чем мы будем заниматься, он не отвечал. А когда мы попытались узнать наше распределение, декан ответил: «Это организация, которая по специальному решению правительства СССР может брать к себе на работу «где сочтет» и «кого сочтет».
Таким образом, о назначении в п/я №590 мы узнали лишь после защиты диплома в марте 1956 года, а 12 апреля 1956 года я уже был в зачислен в сектор 9 КБ-11 (внешних испытаний).
Нас, одновременно приехавших на место работы молодых специалистов, набралось 35 или 40. Собрались мы в кабинете заместителя директора КБ-11 по кадрам А. М. Хмелевцова. Прочитали мою специализацию — бомбо-торпедно-реактивное вооружение самолетов. Спрашивают: «Ты там что-нибудь подвешивал?». «Из нас готовили конструкторов установок для бомбометания, стрельбы РС и пуска торпед», — отвечаю я. «Значит, пойдешь в 9-й сектор».
После оформления документов и пропуска я предстал перед начальником 9-го сектора. Тот, узнав, что я инженер-электромеханик, вызвал начальника отдела В. П. Буянова и передал меня «из рук в руки». Меня представили коллективу отдела, где трудилось 7-8 опытных специалистов, остальные были такими же молодыми, как и я.
Нас ознакомили с руководящими документами по режиму секретности, правилами внутреннего распорядка, диспозицией отделения, института и опытных заводов. После оформления допуска к документам высшего звена секретности («Особая папка») через 2-3 недели после начала работы нам прочли лекцию по электросхеме «изделия РДС-3» и свозили на площадку №9, где показали макет этой атомной бомбы. Работы было очень много, а людей мало, поэтому нам сразу предложили писать инструкции «окончательной сборки» на модернизированную «настоящую водородную» РДС-37, руководствуясь старым документом на «немодернизированную».
Если что-то было непонятно, я обращался к заместителю начальника отдела В. П. Алушеву. Утверждал документ лично у главного конструктора КБ-11 академика Ю. Б. Харитона, на его вопросы ответил довольно четко.
Учились мы в ходе работ рядом с опытными специалистами. Правда, для освоения нового измерительно-проверочного стенда ПО-21, оснащенного специальными двухуровневыми осциллографами, осциллографическим измерителем времени (разработки АН СССР), счетчиками Гейгера-Мюллера и новым блоком автоматики для инициирования ЯЗ группа из трех человек была делегирована в Москву, в КБ-25 (ныне ВНИИА им. Н. Л. Духова). Потребовалось сдать кучу зачетов по безопасности каждого вида работ с «изделиями», а кроме того — получить еще и «книжку взрывника». Каждый из нас осваивал программы и сдавал зачеты самостоятельно, без всяких шпаргалок и подсказок. Это воспитывало в нас чувство ответственности, которое очень пригодилось в дальнейшей работе.
Через три месяца после этого я поехал на Семипалатинский полигон в составе группы «линейщиков»: мы готовили линию подрыва ядерного заряда, устанавливаемого на 100-метровой вышке. Следует отметить, что работа на полигонах сплачивала коллектив испытателей: все понимали, что мы делаем важное государственное дело, от нас зависит обороноспособность страны. Поэтому работали добросовестно, порой целыми сутками без отдыха. Жили в неблагоприятных бытовых условиях (двухъярусные кровати, туалет типа «сортир», несвежая питьевая вода, повышенный радиационный фон). Тогда еще не было норм радиационной безопасности — первая НРБ-62 появилась только в 1962 году, когда воздушные и наземные испытания ЯЗ были запрещены.
Нас не делили на «начальников» и «подчиненных». К председателю Госкомиссии — начальнику ГУОК МСН генерал-лейтенанту Н. И. Павлову (в прошлом — заместителю Л. П. Берии), так же, как и к научным руководителям испытаний академику Ю. Б. Харитону и доктору технических наук Е. А. Негину, можно было обратиться по любому вопросу. Переписка и телефонные связи с родными были запрещены, но руководители не отказывали нам в просьбе позвонить домой по правительственной ВЧ-связи и узнать семейные новости.
Сведения по испытаниям ракетных комплексов мы докладывали по ВЧ-связи руководству КБ-11, ведущим специалистам ГУОК МСМ, ведущим специалистам главка или заместителю начальника главка — для доклада заместителю министра. Приезжая домой и в Москву, мы лично докладывали обо всем главному конструктору КБ. Мы свободно общались с главными инженерами, генералами и даже маршалами — независимо от «табеля о рангах».
Объем работ был так велик, так высока была персональная ответственность, что человек становился опытным специалистом за два с половиной — три года. Работы на испытаниях (на заводе, площадках, полигонах), подготовка объектов испытаний, регистрация и обработка результатов испытаний, написание ответственных отчетов, по которым образцы ЯБП принимались на вооружение, — все это наглядно показывало, на что способен тот или иной исполнитель. Поэтому карьера каждого сотрудника зависела от его личных способностей.

К сожалению, сегодня продвижение по службе часто связывают с кумовством: «Если папа начальник — то и сын в подмастерьях ходить не должен». Самоотверженность на работе сейчас не в моде, поэтому и производительность труда у нас в 4-5 раз ниже, чем в США. В наше время при выполнении ответственного задания на часы не смотрели, — лишь бы выполнить!
Друг друга мы приветствовали по-русски: крепким рукопожатием. Как обращаться — на «вы» или на «ты» — это зависело от уровня воспитанности человека. Например, трижды Герой Соцтруда, академик АН СССР, депутат пяти созывов Верховного Совета СССР Ю. Б. Харитон неизменно ко всем обращался только на «вы», — что, безусловно, льстило каждому, поскольку академик всегда подчеркивал свое уважение к собеседнику. Первый заместитель главного конструктора, лауреат Ленинской и двух Государственных премий Ю. Н. Мирохин обращался к сотрудникам на «ты», и это было своего рода выражением товарищества, даже дружбы. Словом, стиль общения был как в нормальном цивилизованном обществе: фамильярность, окрики, нецензурная брань, как правило, отсутствовали даже при разного рода «разбирательствах».
Учитывая высокую занятость, руководители курили, в основном, в своих кабинетах. Высшее руководство обедало или в «генеральской столовой», учрежденной еще первым директором КБ-11 П. М. Зерновым, или дома в семейном кругу. Остальные питались в общих столовых, сооруженных по соседству, либо в рабочих зданиях подразделений КБ.
Поскольку наша деятельность была связана с большими секретами, о ней, как правило, не говорили. Поэтому разговоры могли быть самые разнообразные, но только не о работе.
В то время престижными считались победа в соцсоревновании, успехи в спортивных состязаниях и олимпиадах подразделения, КБ, института, а также первенство в различных конкурсах.
Праздники делились на официальные (1 мая, 7 ноября, 8 марта, Новый год, День науки) и неофициальные — юбилеи, выезды на природу с шашлыками, рыбалки и походы.
Награды и звания обсуждались на НТС подразделения. Учитывались качество, новизна, полезность выполненной работы. Результаты голосования выносились на более высокий уровень НТС: КБ, института.
До 1953 года сотрудники никуда не ездили во время отпуска: была доплата 100 процентов плюс свой пансионат. За «зону» шла доплата в размере 20 процентов. Тогда и родственников нельзя было пригласить в гости. Сейчас допускается приезд только близких родственников, если для этого имеются веские причины.
Были и ограничения на выезд за рубеж. Выезд был закрыт на 5 лет при допуске «сов. секретно» и на 10 лет — при допуске особой важности.
Сотрудников ВНИИЭФ обслуживала 2-ая городская поликлиника (КБ-50 ФМБА). Люди, ушедшие на пенсию по 1-му списку, тоже пользовались этой поликлиникой. Во ВНИИЭФ в черте зоны есть пансионат с лечебно-профилактической лечебницей. С недавнего времени по инициативе Совета ветеранов ВНИИЭФ открыты «Центр здоровья» для взрослых (при поликлинике №2) и «Центр здоровья» для детей (при детской поликлинике на ул. Герцена).
Работают у нас люди традиционно остроумные. Приведу два анекдота из саровской жизни.
Первый. В Саровском монастыре в 1951 и 1953 годах по инициативе начальника объекта генерала КГБ Александрова было взорвано два собора (якобы они служили ориентирами для американских бомбардировок). Руководитель взрывных работ через два года потерял глаз при взрыве электродетонатора от ЯЗ при снаряжении ЯЗ на лесной площадке. Верующие тут же воскликнули: «Бог наказал!».
Второй. В 1908 году Саров посетил царь Николай II с семейством, тогда же был канонизирован святой Серафим Саровский и открыт собор его имени. Царица искупалась у ближней Пустынки святого Серафима, после чего у нее родился долгожданный сын Алексей (будущий наследник престола). Однако в Ипатьевском доме в Екатеринбурге все окончилось весьма плачевно.
Когда меня спрашивают, бывал ли я в экстремальных ситуациях, я отвечаю: два раза. Первый раз, в 2007 году, это был ураганный ветер в районе КПП №5, поваливший 2 гектара столетних сосен в два обхвата. Второй раз -сильный лесной пожар вокруг зоны в 2010 году, на тушение которого, кроме сотрудников МЧС, была мобилизована молодежь института.