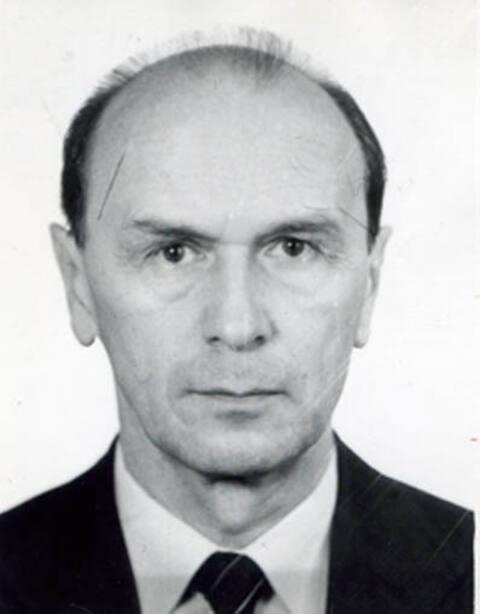На полигонах
Итак, изделие собрано, принято представителем заказчика, отправлено в войска. Но работы с ним завод еще не закончил. Как и всякую военную продукцию, изделие необходимо проверить в условиях его боевого применения, в составе комплекса оружия.
Такие испытания мы называем внешними или полигонными, потому что проводились они на полигонах Министерства обороны различных видов Вооруженных Сил. Официальное название этих испытаний в 50-х годах — «контрольно-летные испытания»; в 60-х годах они стали называться «контрольно-серийными». Каждое такое испытание подтверждало боеспособность изготовленных заводом штатных изделий, защищало определенную их партию. Последующая партия изделий защищалась уже новым испытанием.
Первым директивным документом, обязывавшим провести контрольные испытания серийных изделий, был приказ начальника Первого Главного управления (ПГУ) при Совете Министров СССР Б. Л. Ванникова от 18.02.1950г. № 49сс-оп, который, в частности, предусматривал задачу: изготовить и испытать на полигоне ВВС два изделия РДС-1 без основного заряда.
В то время наш завод находился в составе КБ-11. Эти первые контрольно-летные испытания проводились испытательной бригадой КБ на полигоне ВВС в Крыму («у Чернореза» — по имени начальника полигона).
Лучшим способом проверки на боеспособность нашей продукции были «горячие» испытания, т.е. срабатывание изделия с атомным взрывом. Однако невозможность такого варианта очевидна. Поэтому в образцах изделий, предназначенных для контрольных испытаний, оставляли химическое взрывчатое вещество (ВВ), а основной заряд заменяли его металлическим эквивалентом. В изделие устанавливалась радиотелеметрическая аппаратура, которая передавала в закодированном виде данные работы автоматики и системы подрыва изделия с его борта на специальные приемные пункты. Регистрировались сверхбыстрые, микросекундные процессы при срабатывании изделия, а также более медленные процессы работы изделия на траектории полета или падения. Большим достижением было создание в КБ-11 телеметрической аппаратуры, которая надежно передавала с борта взрывающегося изделия информацию о процессах, длящихся миллионные доли секунды.
Впоследствии такая аппаратура стала изготавливаться и нашим заводом. В электромонтажном цехе с 50-х годов выпускались жгуты, фидеры, а также особо сложные в изготовлении и настройке приборы бортовой и наземной телеметрической аппаратуры контрольных изделий. Большую номенклатуру приборов телеметрии мы получили по кооперации.
На телеметрических приемных пунктах во время испытаний производились прием и запись радиосигналов, излученных контрольным изделием при его падении. Поймать такой сигнал, особенно сверхмалой длительности, и записать его с осциллографа на фотопленку — было решающим, наиболее ответственным моментом испытаний.
Приемную радиотелеметрическую аппаратуру еще в 50-х годах стали устанавливать на самолетах, чтобы повысить надежность приема сигналов. Операторами на приемных пунктах, в том числе и на самолетных, были сначала специалисты КБ-11, затем операторами и руководителями финишных работ стали специалисты ВСБ завода. С 70-х годов эта работа была передана специальным подразделениям полигонов Минобороны.
Поскольку измерения проводились на конечном участке (финише) траектории полета изделия, то операторов-измерителей обычно так и называли — «финишеры». В 60-х годах мне не раз приходилось работать таким «финишером». Летали на самолетах ЛИ-2, реже на вертолетах МИ-4. Запомнились те мгновения, когда вот-вот должен был прийти сигнал от «сработавшего» изделия: напряженное ожидание — «будет, не будет», сверхвнимание — глядим, не мигая на индикаторы. И вот вспыхивают одновременно две индикаторные неоновые лампочки (обязательно одновременно!) — сигнал принят! Но это еще не все: нужно было уже на земле обработать многометровую фотопленку с записью сигналов и расшифровать полученную информацию. Самым уважаемым человеком в экспедиции становился фотограф — обычно один из тех же операторов, которые летали на прием сигналов.
Наконец пленка проявлена, высушена, сигнал обнаружен, расшифрован, рассчитан. Остались только приятные оформительские работы.
С 1960 года организация и проведение всех внешних (полигонных) испытаний были поручены только что образованной на заводе военно-сборочной бригаде (ВСБ). Начальником ее был назначен полковник А. А. Косов, его заместителем (главным инженером) — майор Н. С. Логинов, оба участники Великой Отечественной войны.
Летать приходилось много. В воздухе самолеты и вертолеты находились от трех до семи часов. Финишные работы проводились в Казахстане, на Камчатке, в районе Баренцева и Белого морей, на Каспии.
На испытаниях мы сдавали продукцию, представители Минобороны ее принимали.
Во время испытаний боевых частей ракет проявилась главная особенность наших изделий: они имели гораздо большую надежность, чем носители. Несколько раз за всю историю наших КСИ нас подводил именно носитель: было аварийное падение на старте или на траектории.
Пожалуй, наиболее памятным аварийным пуском был пуск межконтинентальной ракеты системы С. П. Королева с нашим контрольным изделием на полигоне Байконур в июне 1963 года. Запускали поздно вечером, из шахты. Мощная двухступенчатая боевая ракета после старта отклонилась от заданной траектории, на высоте 12 км на ее борту был послан сигнал на наше изделие, и оно сработало на подрыв. Красноватая вспышка озарила южное небо, затем на землю посыпались горящие обломки самой ракеты. Из знаменитого «домика космонавтов» запуск наблюдали В. Быковский, которому назавтра предстояло стартовать в космос, его дублер и сам С. П. Королев.
Первые контрольно-серийные испытания наш завод как самостоятельное предприятие провел на полигоне ВВС Керчи в 1957 году. Изделие было скомплектовано как боевое без основного заряда. От завода ответственным руководителем испытаний был М. М. Буков. Бригадой специалистов на испытаниях руководил подполковник Г. В. Глушаков. После подготовки на техпозиции бомба (она весила около 5 тонн) была подвешена под самолет-носитель ТУ-16 и сброшена с высоты 11 500 м. Траектория падения и точка подрыва бомбы записывались довольно сложной для того времени аппаратурой: кинотеодолитами, радиолокаторами, хронографами. Изделие выдержало испытания и подтвердило боеспособность всех выпущенных заводом бомб этого типа.
Какими, с моей точки зрения, были основные факторы, обеспечивающие успех испытаний? Во-первых, отличная подготовка самих испытателей, т.е. специалистов ВСБ. Во-вторых, качественная сборка контрольных изделий на заводе и подготовка их к применению на полигоне. И, в третьих, — безотказная работа приемной регистрирующей аппаратуры и обслуживающих ее операторов.
В 1969-1974 годах нашим заводом были выпущены для всех полигонов страны усовершенствованные приемно-регистрирующие комплексы: с размещением на самолетах и вертолетах, наземный с мачтами, морской (корабельный). Работа по изготовлению комплексов, или «баз», как тогда говорили, была внушительной. Часть аппаратуры изготовлялась на заводе, часть поступала по кооперации. После рассылки «баз» на полигоны последовали длительные командировки работников завода для ввода их в эксплуатацию.
С 1978 года на нашем заводе стали выпускаться принципиально новые телеметрические приемные комплексы: информация от испытываемых изделий принималась, а экспресс-информация выводилась из памяти пульта на бумажную ленту цифропечатающего устройства. С фотоработами было покончено. Чувствительность, надежность и оперативность приемной системы резко возросли. Комплексы выпускались в тех же назначениях: самолетный, наземный, морской.
Были ли опасности на испытаниях? Да, наши контрольные изделия с большим количеством взрывчатки особо опасны. Но реальная угроза исходила не от них — настолько они были надежными.
В 1962 году произошел исключительный случай. Наше контрольное изделие было подстыковано к большой ракете, которую впервые в истории пускали из шахты на полигоне Капустин Яр. Ракета после старта поднялась вертикально примерно на 600 м, затем из-за отказа двигателя повисела немного на этой высоте и упала вниз.
Неподалеку находились наши представители А. А. Косов и Ю. Г. Подгорнов, в общем-то, нарушившие правила безопасности из-за желания посмотреть пуск поближе. Как бывалый командир Анатолий Анатольевич четко скомандовал «ложись» и, невзирая на солидную комплекцию, лихо нырнул под стоящий рядом газик; Юрий Георгиевич, кажется, не успел этого сделать. Ракета грохнулась прямо в шахту, возник огромный пожар — горело топливо; но наше изделие показало свою надежность — даже в этом огне не взорвалось! Потом аварийная команда вытаскивала его из шахты и обезвреживала.
Дважды на Черном море сильно горел стреляющий корабль: пожар возникал после пуска ракеты с нашим контрольным изделием. На кораблях тогда находились наши представители. Пришлось побывать и буквально под соплом ракеты: на стартовой позиции уже после команды «пуск», поскольку двигатель ракеты не заработал, нам надо было срочно отключить на пусковой установке свою аппаратуру.

На пуски «морских» изделий выходили на надводных кораблях, в том числе на знаменитых «Варяг» и «Киров», на катерах и подводных лодках — дизельных и атомных. У одной такой АПЛ в 1986 году во время выхода на стрельбу был поврежден и «потек» ядерный реактор. Лодка срочно вернулась на базу.
Главный итог проведенных испытаний состоит в том, что отрицательных результатов за все это время у нас не было, все испытания были зачтены. А проведено было более двухсот испытаний — в среднем по 7-8 испытаний в год.
Хочется отдать дань уважения и памяти тем работникам завода, кто своим руководством, участием, добросовестной работой на полигонах и в воинских частях обеспечивал успешный ход испытаний.