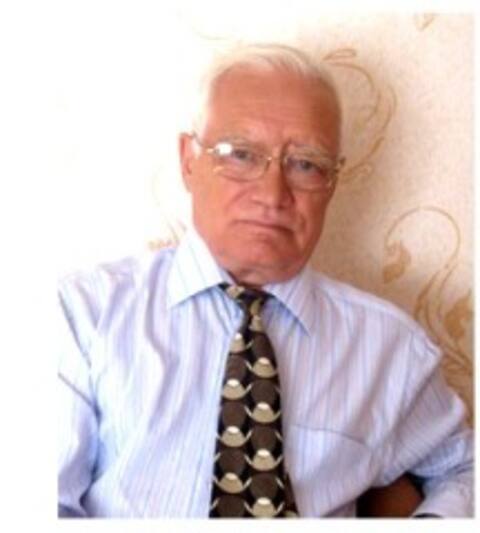Жизнь, как мгновение
Волею невероятного случая и в результате жесткого отбора (секретная проверка родословной длилась три месяца), осенью 1958 года я попал в училище №2, в п/я 21 в Челябинской области, в котором должны были готовить первых официальных дозиметристов СССР. До нас работники этой профессии назывались — лаборант «Д». Как нам объясняли в учебно-медицинской комиссии, мы будем учиться измерять мощность радиационного излучения на наших производствах, а также оберегать советских людей от облучения, если американцы осмелятся сбросить на СССР атомную бомбу. Все подробности — во время учёбы.
Было нас 20 человек, вчерашних десятиклассников, попавших из разных областей в закрытый со всех сторон, засекреченный строго-настрого город, расположенный в красивейшем месте Южного Урала. Потом и до нас дошло, что училище создавалось в срочном порядке после крупной аварии на атомном производстве. Приказ о создании был, а помещения для обучения не было. И нас, первых учеников, по 2-4 человека «раскидали» по объектам — так в те годы назывались заводы радиохимического производства. На первом этапе обучения я попал на объект 24, где на атомных реакторах производилось обогащение урана. Что это такое, мы узнавали постепенно. Учиться начали бегло, как теоретически, так и производственно-практически, у действующих лаборантов «Д» на рабочих местах. Трудно передать ощущения, которые испытывал вчерашний школьник из степного Казахстана, шагая с дозиметром ПМР по атомному реактору. В школе мы не изучали строение атома, тем более деление и излучение радиоактивных металлов.
Рабочие учителя-дозиметристы, зная чуть больше школьной программы, объяснялись так, что порой было трудно понять, где правда, а где шутка. Рассказывая о работе реактора, говорили, что он работает за счет деления урана в твэлах — в небольших металлических блочках, которые помещаются в длинную трубу цепочкой, где облучают друг друга нейтронами и между ними происходит атомная (!) самопроизвольная цепная реакция с гамма-излучением и разными альфа- и бета-частицами. Еще шутили, что урановые блочки, как собаки в одной конуре на цепях — отсюда и цепная реакция, лают друг на друга и разогреваются так, что от этого и бомбы взрываются, и атомные электростанции работают. А за порядком — точнее, за всеми видами излучения — следим мы, дозиметристы.
Вторую часть обучения я проходил уже на радиохимическом объекте 25. Это производство по сравнению с атомным реактором — небо и земля, где землёй и не пахнет даже на глубине десяти и ниже метров. Бетон, пещеры–каньоны, сплошь покрытые металлом, с толстенными чугунными дверями. Здесь я по полной программе получил — и знания по дозиметрии, и понимание радиации, и ответственность дозиметриста за жизни людей, и чувство локтя в трудную минуту. Через четыре примерно месяца сказали, что я закончил обучение в ТУ и практику на производстве, мне присвоили 4-й разряд, и руководитель службы «Д» объекта 25 Евгений Иванович Андреев, классный дядька, включил меня в штат. Это был, кажется, июль 1959 года.
Скоро я знал всё о взрыве 1957 года. И как небо красиво светилось пару дней, и как отмывали от радиации улицы города и дороги на некоторые объекты, особенно на 25-й. Кое-какие подробности узнал позже, войдя в коллектив службы «Д» на равных правах. Первые мои опыты как дозиметриста оказались на месте того самого засекреченного взрыва на комплексе, где работы по ликвидации последствий взрыва шли почти до конца 1960 года. Там я и понял все варианты, когда ошибка дозиметриста может стоить кому-то здоровья, а то и жизни. А при взрыве 57-го жертв не было, потому что он случился в воскресенье, когда люди отдыхали. Жертвы (и много) появились потом, в виде облученных ликвидаторов последствий этой аварии на комплексе «С», в хранилище, где от перегрева рванула «банка» ёмкостью 250 кубов с высококонцентрированными радиоактивными отходами.
Поступив в службу «Д» в июне 1959 года, я познакомился с парнем, который первым побывал на месте взрыва. Это был старший техник-дозиметрист Володя Турусин. Как опытный специалист он помогал мне осваивать непростую профессию. Но самое интересное я узнал о той аварии, что на второй или третий день после взрыва из Москвы прилетел министр Среднего машиностроения, так была засекречена в те времена атомная отрасль. Министр Ефим Павлович Славский с аэропорта приехал сразу на объект 25, где его уже ждали. Чтобы не облучать лишних людей, он сам решил обследовать место взрыва. Ему выделили опытного дозиметриста, старшего техника «Д» Владимира Турусина. Ефим Павлович помогал — держал за руку, когда Володя спускался или поднимался по глыбам рваного бетона и железа в разрушенный комплекс, держал и подавал дозиметр, записывал данные о радиации, которые передавал Турусин с показаний прибора. В 21-м веке трудно даже представить, чтобы министр (!) помогал рабочему обследовать разорванный в клочья комплекс, загрязнённый смертельным уровнем радиации. Володя, обследуя с министром радиационные поля, получил большую дозу облучения, на грани лучевой болезни. После этого он обследовался, лечился, а на работе был переведен в чистые зоны. Министр Славский, говорят, тоже получил больше десятка годовых доз. К концу 1959 года основные работы по восстановлению комплекса «С» и очистке прилегающих территорий были закончены.
Однажды меня послали на этот самый комплекс проверить ситуацию перед ремонтными работами. По дороге я встретил Турусина, сказал, куда иду. Он сильно заинтересовался и пошел со мной. Зная, что ему нельзя ходить в промзоны, я спросил, есть ли у него кассета. Он отмахнулся, сказал, что на комплексе сейчас «боле-мене», давно там не был, просто интересно. Работникам основного производства выдавалась кассета с фотопленкой, и по степени её засветки определялся уровень облучения за рабочий день. Когда мы подошли ко входу на комплекс, я заметил, что Володя побледнел, остановился, даже вытер лицо «лепестком» — это защитная маска от радиоактивной пыли и альфа-частиц при дыхании, сделанная из ткани, придуманной академиком Петряновым. «Лепестки» спасли жизни тысячам работникам атомной отрасли. Современные медицинские маски только внешне похожи на наши «лепестки», ткань у них совсем другая.
Володя потоптался у входа и неожиданно сказал, что вспомнил, с какими чувствами спускался тогда в разрушенный комплекс, как влез на изуродованное бетонное перекрытие (говорили, весило оно до 150 тонн и было отброшено взрывом как перышко на десятки метров), как спускался метров на 8 вниз, на изуродованную «банку» из нержавейки (ту самую, на 250 кубов) и замерял радиационное поле до 1000 мкр/сек. Это было огромное гамма-излучение, при котором за минуты можно было получить десятки годовых доз облучения и даже смертельную. Как вспоминали дозиметристы, фонило из каждой щели, от каждого камня. Володя постоял, потом сказал:
— Я за два года после ремонта и десорбции прихожу сюда третий раз и каждый раз проживаю те минуты. Тянет сюда, понимаешь? Фонит в душе. Хоть получил тогда рентгенов выше крыши.
Я стоял в шоке, вытаращив глаза и забыв включить «Карагач» — это дозиметр для измерения больших уровней радиации из-за угла. У него датчик находится в двух метрах от измерительного прибора на конце трубки. То есть можно спрятаться за камень или угол стены, высунуть в зону датчик и произвести замер, не входя в открытую зону радиации. Володя посмотрел на меня и невесело хмыкнул:
— Испугался? Ничего, опыта наберешься, поймешь.
— А тебе тогда не страшно было?
— Да как-то не до того было. Опять же, министр Ефим рядом. Он сказал: от того, как я проведу измерения радиации, зависят жизни тысяч людей.
— Значит, ты… Как Александр Матросов на амбразуру?
— Не знаю… Матросов видел, где немцы, а тут… И не видно, и не слышно.
Потом, возвращаясь с комплекса, Володя еще много рассказывал о взрыве и последствиях, о нашей работе и будущем.
Владимир Турусин в службе «Д» работал еще какое-то время (естественно, в чистой зоне), пользовался безграничным уважением и авторитетом. Это по его рекомендации меня через пару лет назначили секретарем ВЛКСМ объекта 25, откуда я ушел через два года по причине поступления в вечернее отделение МИФИ и перехода в связи с этим на радиохимический объект 35. А Володя в начале 70-х, кажется, был назначен первым секретарем горкома ВЛКСМ. Кстати, только в 1989 году была снята секретность с первой крупнейшей аварии в атомной промышленности СССР в 1957-м году.
Владимир Федорович Турусин, получив большую дозу облучения — какую, для нас было засекречено — умер в 1994 году в должности заместителя директора комбината в возрасте 59-ти лет. Он оставил о себе хорошую память. Надеюсь, что ветераны, участники ликвидации аварии 1957 года, знают, что только благодаря Турусину они получили статус ликвидатора и законно положенную за это доплату к пенсии. Правда, министерские чиновники их несправедливо приравняли — и даже назвали — чернобыльцами. Но об этой чиновничьей дури Владимир Федорович уже не узнал.
Потом, в процессе работы на объекте 20 инженером-технологом по производству плутония, я много-много раз вспоминал Владимира Турусина как надёжного, правильного, верного товарища и преданного своему делу человека.
Я встречался с ним на работе, на спортивной площадке, у костра с песнями под гитару на озере Иртяш, из которого течет река Теча, но… Уже много лет мои воспоминания о Володе начинаются картиной, как у входа в помещение комплекса он вытирает бледное лицо белым «лепестком». Вечная память Владимиру Федоровичу Турусину.
На атомном производстве происходили с нами не только страшные случаи, но и интересные, а бывало даже — смешные. Один из страшных случаев произошел, к счастью, не со мной, но с человеком, который занимал практически такую же должность. После окончания МИФИ, примерно через полгода, я был направлен на объект 20, в химико-металлургический цех инженером ЦПУ — центрального пульта управления. Начальником цеха был мощный во всех отношениях мужик, мудрый и умный Николай Николаевич Коростелёв. Шесть лет моего обучения в вечернем институте с одновременной работой на радиационно-химическом производстве дали и знания, и хороший производственный опыт. Через месяц работы инженером ЦПУ у меня было ощущение, что я здесь работал всю жизнь. Не помню уже, через год или полтора Николай Николаевич предложил мне поработать начальником металлургического участка, т.е. с химии перейти к плавке плутония. Что значит предложил? Вызвал, сказал, подписал приказ. Всё. Я стал технологом по производству оружейного плутония. Мне принесли из отдела кучу технологической информации с грифом «Совершенно секретно», которую я должен был изучить и сдать экзамен, чтобы получить допуск к работе. Под грифом «Совершенно открыто» докладываю, что после 80 лет жизни я ничего не помню из той секретной документации.
Изучая технологии и, конечно, технику безопасности, я прочитал страшную историю, которая произошла чуть раньше на объекте. Это подавалось нам, молодым инженерам, как опасно не только для себя, но и для производства делать непотребное. Я уже не помню фамилию того технолога (кажется, он даже был начальником смены), но это однозначно хранится и сегодня в документации по ТБ объекта 20.
А произошло всё в конце рабочей смены. Якобы процесс по завершению операции по передаче раствора с максимальной концентрацией урана не успевали завершить к сдаче смены. Технолог пошел к химическому реактору и с нарушением ТБ слил через какой-то спецслив раствор в бутыль, чтобы перенести и слить напрямую через какую-то крышку в нужный реактор. Абсурд? Бред? Да! Но это случилось, и, главное, технолог никому в смене не сказал, что он пошел делать это. Как только он наполнил 20-ти литровую бутыль (внизу она была шаровой формы), внутри пошла СЦР — самопроизвольная цепная реакция. То есть, та самая реакция деления ядер, от чего происходит атомный взрыв и выделяется огромное смертоносное гамма-излучение. Шаровая форма — оптимальная для начала СЦР. Технолог умер от лучевой болезни через месяц, но успел рассказать кое-что. Как только он наполнил бутыль и поднял ее на грудь, раствор вскипел, принял шаровую форму бутыли, засветился, и часть раствора выплеснулась через горловину. Сработала вся звуковая сигнализация цеха о превышении уровня радиации. Технолог понял, что для него это смерть, но он может спасти своих сотрудников, которые подумали, что это ложная сигнализация — ведь никогда не бывало, чтобы сигнализация срабатывала сразу на двух этажах. Он поставил бутыль, позвонил на пульт и предупредил, что произошел большой выброс из реактора и чтобы весь персонал бегом покинул здание. Сам технолог, зная, что он уже не жилец, слил раствор из бутыли в реактор, как смог смыл водой из шланга выплеснутую радиацию, как смог помылся в санпропускнике и пошел в медчасть. Десорбщики потом несколько дней отмывали реакторную часть цеха. Работники первого этажа успели убежать, никто не переоблучился. Предположения на счет этого странного и страшного случая были разные, но до конца, по-моему, так и не разгаданные. Такого же мнения придерживались и многие опытные сотрудники объекта. Этот трагический случай вошел в историю не только объекта 20, но и комбината «Маяк».
А вот лично со мной тоже был случай, когда я уже работал технологом в металлургическом цехе. С одной стороны — очень серьёзный, с другой стороны… Дело было так. Рассчитав положенные объёмы, вес, время, я подписал бумаги и дал задание аппаратчикам запустить технологический цикл, конечным итогом которого из плавильной печи должна была «выкатиться» шайба металлического плутония весом около 3,5 кг. Процесс пошел, а я занялся другими важными делами, их было много. В свободное от технологий время я готовил и редактировал цеховую стенную газету, которая, кстати, была лучшей на объекте 20, чем очень гордился Николай Николаевич, даже несколько раз давал мне за это премию. Вечная ему память. Сегодня это покажется странным, но в те годы работники цеха просто ждали, когда же выйдет очередной номер стенной газеты.
На пульт позвонил аппаратчик, сказал, что можно принимать продукцию. Он уже привёз по конвейеру контейнер с готовой шайбой до места взвешивания, поставил на весы и ждал меня. Взвесил, и… Взвесил ещё и ещё. Потом я взвесил ещё и ещё… Дело в том, что слитки взвешивали в закрытых контейнерах, вес которых был известен до полграмма. Плутониевый слиток не рекомендовалось без особой необходимости доставать из контейнера: после плавления хоть и не смертельно, они тоже фонят. Потом я просунул в освинцованную перчатку руку, взял еще теплую шайбу, покрутил, «пожамкал», ещё раз взвесил. Чувствую, что вспотел. В слитке размером в три раза меньше хоккейной шайбы было чуть больше 2 кг, а должно быть 3,5. Не хватало около 1,3 кг. Аппаратчик тоже ничего не понимал, говорил, что никогда такого раньше не было, и я ему верил. Тогда куда?.. Кто?.. Где?.. Исходный продукт загружался в контейнер для плавки строго по расчету, согласно документации.
Началась технологическая проверка. Доложил главному технологу цеха и Николаю Николаевичу. Технолог, опередив всех, вызвал дежурного сотрудника КГБ. Всё как положено. Ещё бы, пропало почти полтора кг оружейного плутония! Вспотеть пришлось многим. Рабочий день закончился, а я с аппаратчиком, под надзором гэбиста, считал по формулам, чуть ли не по атомам, молекулам, потом по миллиграммам, куда же делись полтора килограмма. Прошарили, прощупали всю технологическую цепочку. Гебист то и дело талдычил:
— СЦР плутония начинается с массы 5,5 кг. То есть, потеряй четыре раза по 1,3 кг — вот вам и бомба! Да, мужики, вляпались.
Прошло больше десяти часов. И уже ночью, часа в три, обнаружили, что аппаратчик перепутал крышку контейнера, которая один в один была похожа, но весила на 1,5 кг больше! Потому-то перед плавкой он и загрузил исходного продукта меньше, отсюда и слиток получился меньше. Так мы нашли, казалось, навсегда потерянный плутоний. А гэбист уже называл предполагаемые нам за это сроки — и в худшем, и в лучшем вариантах.
Собрались у Коростелева в кабинете. Я как ответственный выслушал всё, что говорили: офицер КГБ, главный технолог и Николай Николаевич о безответственности, о потерянном — почти от утра до утра — на объекте времени. Аппаратчик то и дело вставлял, что он один виноват. Все самые выразительные слова русского языка за часы беседы всеми участниками были неоднократно повторены в разной тональности.
В конечном итоге Коростелев своих выгнал, оставил только гэбиста, который минут через десять вышел и сказал, чтобы я, технолог и аппаратчик снова зашли к шефу. Вопрос о наказании был решен за пару минут. Главному технологу было сделано замечание, что мало занимается технологическим оборудованием. Мне сделали выговор с лишением премии на 50%, аппаратчику как совершившему ошибку — выговор и лишение 100% премии.
Получка была через несколько дней. Я, аппаратчик и технолог после работы зашли в магазин и купили всё, чтобы отвести душу, с аппаратчика не взяли ни копейки, как-никак премии лишился. Где-то под деревьями за Комсомольским клубом отметили — то ли потерянный плутоний, то ли найденную крышку от контейнера. Наговорились крепко, ну и нахохотались от души. Так что всякое бывало на «Маяке».
Спустя много-много лет, когда я стал заниматься не самопроизвольными цепными реакциями, а поэзией и писательским творчеством, я написал роман «Радиация сердца», где в конце главный герой попадает на место взрыва, на объект 25. Роман не об атомной промышленности, просто я связал время, разум, чувства и любовь — с излучением, которое идет из каждого сердца. Главный герой потом исчезает, как та — самая красивая радиация в небе… до лучших времён. Два года назад я написал посвящение своему другу Мишину Василию Петровичу, лучшему сварщику атомной отрасли СССР — с воспоминанием о молодости. Кстати, он тоже смолоду знал Володю Турусина. Вопреки желанию современного рыночно-продажного руководства объекта 235, при их явном сопротивлении, в свои 82 года Василий Петрович восстанавливает музей радиохимического производства. Собирал его на свалках, но не истории, а в настоящих мусорных свалках, на которые эти «рыночники» выбросили всю документальную память, всё, что было связано с великой атомной историей нашей страны. Они уже капиталисты, им всё похер — и история «Маяка», и ветераны, которые жизни свои не жалели и шли на радиацию, как Матросов на амбразуру. Как Володя Турусин дошел до министерства, чтобы добиться для наших ветеранов доплаты и звания ликвидатора, так и Василий Петрович Мишин добивается у «властителей», чтобы вернули Великой истории Маяка помещение музея, которое было в более добрые времена, но пока с этим вопрос. Спасибо Василию Петровичу, дай Бог ему здоровья и многих лет.
Осмысливая те далекие годы, я решил закончить свои воспоминания о прошлом тем самым посланием другу Василию Петровичу Мишину, официально признанному лучшему сварщику бывшего Среднего машиностроения:
Всё было бесконечно ново,
И жизнь радовала глаз,
А радиация — как слово,
Звучало музыкой для нас.
Не зная, чем же жизнь чревата,
Чем тяжела или легка,
С десятилеткою ребята
Искали формулу цветка.
Безумны были, как корсары,
Кипела кровь, а не вода,
Как за идею комиссары,
Шли в зону первыми всегда.
Шли не под дулом автомата,
По долгу шли, а не за страх…
Такими были мы когда-то,
С идеей в буйных головах.
Всё было, всё!.. В самом начале
Прошла по жилам, по крови
И радиация печали,
И радиация любви.
Не вечны мы и не беспечны,
Ещё не превратились в прах,
Душою молоды, конечно,
Фонит лишь прошлое в сердцах.
Свои мы здесь, не издалеча,
Судьбой просвечены сполна.
… А речка Теча, как предтеча,
Течет в другие времена.
Вот такая наша правда — разная, когда мы были молодыми...