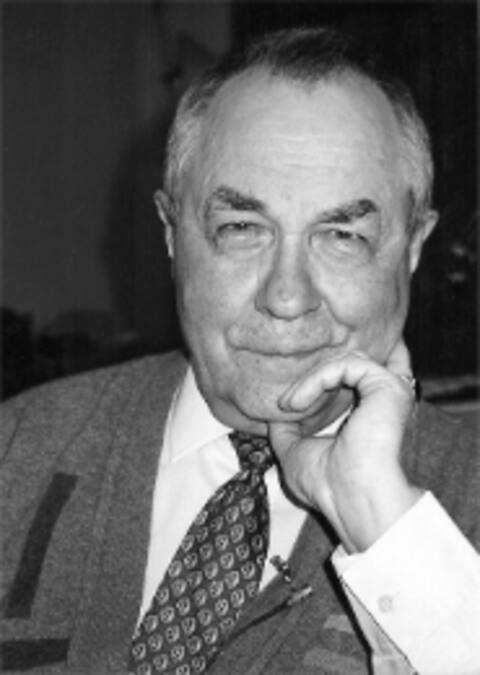Мы хотели на Марс
Недавно на директорате «Росэнергоатома», проходившем на Балаковской АЭС, я вспоминал семейную историю, связанную с моей двойной фамилией. В 70 км от Балакова расположен город Пугачев, раньше он назывался Николаевском. Туда в свое время приехал мой прадед-крестьянин, там родились мой дед, отец, а потом и я. Когда отец решил стать артистом, он поехал в Саратов, где гастролировал театр Корша — первый в России частный театр. Пришел и заявил: «Хочу к вам в труппу». Удивительно, но его взяли. Сказали: «Как раз нет героя-любовника. Как фамилия? Знаешь, у нас в афише один Пономарев уже есть. А ты родом откуда? Из саратовских степей? Ну, будешь Пономаревым-Степным». Где познакомились родители, я даже не знаю. Артистическая жизнь кочевая — вечные гастроли. Больше года родители в одном городе не засиживались. Мама, кстати, по рождению Никитина, но взяла псевдоним Погорельская.
В 1990-х моя помощница прислала интервью с Олегом Табаковым, где он, отвечая на вопрос «Как вы стали артистом?», сказал, что его мама родом из Саратова, из актерской семьи Пономаревых-Степных. Я прикинул: получается, он был моим троюродным братом. Наверное, и у меня в генах есть что-то артистическое. Но пошел я не в актеры, а в физики.
В 1946 году я окончил школу в Камышине. Родители опять уехали на гастроли, я жил один, сдавал выпускные экзамены. За время учебы я сменил школ десять, если не больше. Мы регулярно переезжали с места на место, и я все время был новичком в классе — это, знаете, формирует характер. Ну вот, сдал экзамены. Куда дальше? В Москву, конечно. Родители ничего не советовали — считали меня самостоятельным. Но помню, что сомнений у меня не было: учиться надо только в Москве. Сначала заехал к брату в Донбасс. Погостил дня три. Утром приходим на станцию — кассы все закрыты, билетов в Москву нет. Прибывает поезд, останавливается, но двери не открывает. Один, второй… Ну что делать? Полез на крышу вагона, в те годы многие так делали. Из вещей — солдатский рюкзачок, в нем аттестат и паспорт. Телогрейка защитного цвета, рубашка. Непривычно было, конечно. И страшновато. Тем более на моих глазах с крыши сняли погибшего человека: он не заметил, что мост впереди. Залез я наверх, обнял трубу, дрожу… Потом немного освоился. Правда, на каждой станции приходилось слезать, милиция «крышечников» гоняла. Так доехал до Харькова. Там купил билет на «пятьсот веселый» поезд из товарных вагонов, в которых тогда перевозили и пассажиров. Атмосфера прямо как в фильме «Поезд идет на восток» — один в один.
В Москве из родных и знакомых никого не было. Первым делом я направился в ГИТИС в Малом Кисловском. Пришел — там здание, похожее на сарай. Щами прогорклыми пахнет. Не понравилось мне. И я поехал в МГИМО. Там спрашивают: «Что у тебя есть, кроме аттестата?». А у меня нет ничего, да и аттестат не блестящий. Поехал дальше — на Сокол, в МАИ. В школе я, как и многие тогда, мечтал стать летчиком. Спрашиваю, есть ли общежитие. Отвечают: «Это смотря как сдашь экзамены». Но я рисковать не мог, мне нужна была и стипендия, и общежитие. Кто-то подсказал, что есть еще МЭИ — Московский энергетический. Добрался туда, посмотрел факультеты. На теплоэнергетическом обещали самую большую стипендию — около 300 рублей, и с общежитием никаких проблем. Я и сдал туда документы.
В атомщики попал поначалу тоже из меркантильных соображений. После первого семестра в институт пришли серьезные люди в строгих костюмах и спросили: «Кто хочет изучать больше математики и физики? Стипендия тоже будет больше». Я сразу поднял руку. Это сейчас я знаю, что тогда, в 1946-м, только образовалось ПГУ, впоследствии Министерство среднего машиностроения, — начинался атомный проект. Были нужны научно-технические кадры. Вышло специальное постановление правительства по образованию факультетов в основных вузах страны, которые будут готовить ядерных физиков. В МЭИ создали физико-энергетический факультет, который позже стал одним из факультетов МИФИ.
Тогда все решали за нас. Меня распределили в п/я 3393 — Курчатовский институт. В 1951 году я начал работать. Попал в шестой сектор. Если помните фильм «Девять дней одного года», там есть сцена, которую снимали в Курчатовском институте. Смоктуновский с Баталовым беседуют в лаборатории, раздается грохот, они переглядываются, и кто-то говорит: «Опять в шестом секторе взрывают».
Шестым сектором руководил Владимир Меркин — очень интересный человек. Он был главным технологом первого промышленного реактора. Шестой сектор первоначально ориентировался на разработку атомной бомбы, в нем тогда числился и Юлий Харитон. Когда образовали Арзамас‑16, бомбовая часть ушла туда, хотя в шестом секторе до сих пор сохранился подвал с так называемым биноклем — это два бетонированных прохода метров по двадцать, в которых предполагалось проводить первые эксперименты по оружейным делам. Я пришел в институт, когда первый промышленный реактор уже был запущен. Нам, вчерашним студентам, предложили выбрать тему, и мы решили разработать проекты самолетов с ядерным реактором. Я взял проект с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Информации, конечно, не было никакой, но образование позволяло понять, что примерно делать. Надо нагреть в этом реакторе воздух до температуры около 1 500 °C. Вопрос — как?
В 1949 году атомная бомба была сделана и испытана. И на первое место вышел вопрос ее доставки. Видели фото трех К — Королева, Курчатова, Келдыша? Их сфотографировали возле домика на территории Курчатовского института, где жил Игорь Васильевич, они как раз обсуждали доставку бомбы. Первый вариант — самолеты. Но с обычным топливом у самолета дальность полета ограничена, а вот с ядерным движком — практически нет. Второй вариант — ракеты. Третий — подлодки. Выбрали в итоге, как известно, второй и третий вариант.
Почему отказались от самолета с ядерным двигателем? Был конец 1950-х. Мы работали над этими самолетами. Приходит Меркин: «Ребята, срочное дело. Курчатов поехал в театр, когда ему позвонили сверху и сказали, что в США вроде как запустили самолет с ядерным реактором. Нужен анализ, что это такое, чтобы доложить в Кремле». Ну, мы сели, помозговали и решили — как позже выяснилось, совершенно верно: на борту самолета американцы просто подняли небольшой реактор, чтобы проверить вопросы, связанные с распространением излучения. Как оно будет воздействовать на экипаж, на оборудование и т. д. Курчатов доложил эту версию в Кремле. А на следующий день позвонил Туполеву и сказал: давай мы тоже поднимем реактор на самолете. Уже через две недели было принято решение о разработке такого проекта.
Реактор поставили на бомбардировщик, на Ту‑95. На оружейные турели поставили детекторы излучения. Сам реактор разместили в бомбовом отсеке. Собрали команду испытателей, в которую вошел и я. Так что я летал на самолете с атомным реактором. Многие не верят. Но вообще я считаю решение отказаться от самолета с ядерным движком правильным. Как «последний выстрел» использование такого самолета еще возможно. Но в роли постоянной компоненты в авиации — нет. Существует опасность аварии, падения самолета. И я не вижу технической возможности обеспечить герметизацию радиоактивности в таком случае.
Потом мы переключились на создание ракет с ядерными реакторами, разрабатывали их как межконтинентальное средство доставки ядерных зарядов. В 1960-е годы мы сконструировали двигатель с высокотемпературным реактором, который нагревал водород до 3 000 °C. Что много даже по нынешним меркам; обычные реакторы работают с нагревом теплоносителя до 300 °C, быстрые — до 600. Конечно, информация была закрытая. И только когда в 1990-е мы начали сотрудничать с американцами, стало понятно, что наши разработки существенно превосходили их достижения. Есть чем гордиться. Это до сих пор рекордный результат — реакторы, которые могут нагревать водород до такой температуры. Но по разным причинам это направление в те годы тоже не получило серьезного развития — решили, что задачу доставки атомных бомб лучше всего решат подлодки.
Когда мы начали думать, как осваивать Солнечную систему, то вновь вернулись к ракетам с ядерным двигателем. Ну, с полетом на Луну, как известно, нас опередили американцы. Программа «Аполлон» — это была очень сложная, захватывающая экспедиция. Скажу только, что надо уважать и своих партнеров, и своих противников. Иначе никогда не победишь. Итак, мы начали прорабатывать разные космические маршруты.
Луна была пройденным этапом. Мы хотели на Марс. 28 июля 2018 года я сделал снимок — вот он висит на стене. Это полное затмение Луны и великое противостояние Марса, когда он находится ближе всего к Земле. Для меня это знаковая фотография. В начале 1980-х мы планировали именно к 2018 году совершить экспедицию на Марс. С людьми. Технически это можно было сделать, используя те ракетные двигатели, о которых я рассказал, и те космические аппараты, которыми мы тоже занимались. Но увы, пока я ограничился только фотографией Марса.
Помешала перестройка, чернобыльская авария, развал СССР, сумятица 1990-х, изменение структуры атомной отрасли. Следующее великое противостояние Марса будет в 2035 году. Но, боюсь, сегодня одни мы туда и к этому сроку не успеем. Уровень наш, к сожалению, существенно подсел. Надо всем миром решать эту задачу.
Мир озабочен изменением климата, выбросами СО2. Россия подписала Парижское соглашение по климату. То есть надо серьезно ограничивать использование органического топлива. Выхода два — увеличить долю электричества и вводить в энергетику водород. А водород, не выбрасывая при его производстве СО2, можно производить с помощью тех самых высокотемпературных ядерных реакторов, которые мы разрабатывали с 1960-х. Я говорю об этом много лет, особенно часто — в последние два года. Потому что вижу: в мире взрывной рост интереса к водороду. Toyota и Mercedes выпустили концепт-кары на водороде. Появились самосвалы на водороде, автобусы. В Бельгии сухогруз строят, еще где-то паром пускают. Построено много заправочных водородных станций. Но Россия, как всегда, на первом месте сзади — у нас ни одной. Хотя есть возможность занять лидирующую роль на этом рынке.
Мы обладаем технологией высокотемпературных ядерных реакторов. И мы можем построить их довольно быстро. Получение водорода из природного газа — стандартная промышленная технология. Природного газа в России немерено. Так что этим чистым, наработанным без выброса СО2 водородом мы можем и обеспечить свою страну, и экспортировать продукт с высокой добавленной стоимостью. В несколько раз дороже просто газа. Потенциал рынка огромный, эквивалентный электрическому. Это тот самый национальный проект, который мог бы помочь России. Но ведь и другие не дремлют.
Мысль, что мы опоздаем, заставляет меня нервничать. Китайцы в следующем году пускают два опытно-промышленных высокотемпературных реактора. Правда, у них нет газа. Но они возьмут его у нас, купят по дешевке. А потом будут нам же продавать водород. Мы включили небольшой раздел в национальный проект, который готовится в «Росатоме». Но, на мой взгляд, водородная энергетика достойна отдельного национального проекта. Единственная высокотехнологичная отрасль, которая еще высоко котируется на мировом уровне, — атомная. «Росатом» вместе с «Газпромом», вместе с химической промышленностью мог бы поднять этот проект.
Нас слышат. Никто не говорит "нет". Но никто и не говорит "да". А время идет. Я предвижу, что будет, если мы опять опоздаем. В Россию начнут поставлять машины с водородным двигателем — те же Toyota, Mercedes и другие. А водород мы будем ввозить из Китая. Тогда как сейчас есть возможность выйти на рынок водорода первыми. Один из потенциальных его покупателей — Япония, где решено отказаться от сжигания природного газа. Японцы в этом смысле уже закрываются от поставок газа, а вот если мы дадим им водород, это будет хорошим предметом сотрудничества.
Знаете, в чем главная ошибка российского бизнеса? У нас навар должен быть завтра. А то, что я говорю, — это не завтра, это десяток лет активной работы. Расцвет рынка будет в 2030–2050 -е годы. Но это надо видеть и чувствовать. Наши бизнесмены на такой срок не планируют. Но когда рынок водорода будет сформирован, их туда уже не пустят. Жизнь внуков и правнуков наши бизнесмены не видят. А общество должно быть нацелено на это.