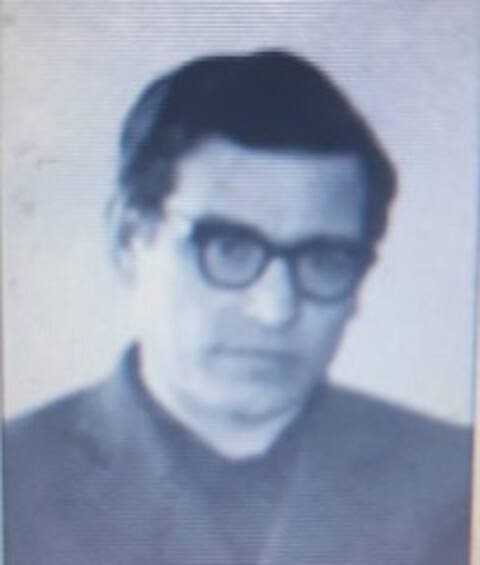Город без окраин
Я приехал в Ангарск в мае 1956 года. На моих глазах на пустом месте построился и стал работать огромный комбинат, вырос целый город — культурный, благоустроенный, современный. «Город без окраин» — так мы называли Ангарск. В 50–70-е годы по всей нашей огромной стране строились десятки соцгородов, вступали в действие новые предприятия, их было много, но широкой известности они не получили, так как их появление было делом обыденным для тех лет. Однако об Ангарске знали во всех уголках страны. Я это утверждаю со всей уверенностью, потому что по делам службы бывал во многих местах, и всюду стоило только упомянуть, что я из Ангарска, как совершенно незнакомые люди начинали проявлять большой интерес, расспрашивать о нашем городе: какой он, как выглядит, какой климат. Находились и такие, кто был уверен, что на улицах Ангарска можно встретить медведей, волков и даже рысь. Приходилось рассказывать, что вместо медведей по улицам ходят трамваи и автобусы, что в Ангарске много солнца и зелени, что зимой случаются морозы ниже 45 градусов, но дышится легко, потому что сухой воздух, полный штиль и безоблачное небо ослабляют воздействие морозов на организм людей и способствуют укреплению здоровья. Между прочим, в справочниках тех лет отмечалось, что в Ангарске 315 солнечных дней в году, хотя в Кисловодске только 310. Так и было до тех пор, пока не появились искусственные моря, изменившие климат. Ангарск стал моей второй родиной, а комбинат, где я проработал 42 года, стал родным домом.
По прибытии я близко познакомился с Виктором Федоровичем Новокшеновым. Благодаря удивительным способностям этого человека, его энергии, обширной эрудиции и кругозору удалось в сжатые сроки построить и начать эксплуатировать огромное предприятие и жилой район. Он одинаково грамотно решал и сложнейшие технические вопросы, и экономические, и организационные. Как у всех волевых и сосредоточенных людей, у него была великолепная память, он не забывал даже о самых незначительных мелочах, с сотнями сотрудников был знаком лично, мог безошибочно судить об их деловых качествах, знал их нужды и чаяния. Отстаивая свои взгляды, он «не ломал шапку» перед министром, но мог внимательно и серьезно относиться к деловым предложениям самого простого работяги. И все эти качества у него сочетались с удивительной простотой и скромностью в отношениях с людьми. И хотя мне от него не единожды перепадало, я до конца своих дней буду с большой теплотой вспоминать этого человека.
В мае 1956-го весь коллектив комбината состоял из 25 человек, но вскоре начал быстро увеличиваться. У первого корпуса стояли только стены без крыши, готовых складских помещений тоже не было, строилась база оборудования (впоследствии склад № 62), были заложены фундаменты здания № 11 (склад № 98). Официально работал только УКС (руководитель В. М. Кулаков), а при УКСе — отдел оборудования (руководитель Л. И. Коврижкин), куда я был зачислен инженером по комплектации основного технологического оборудования. До этого я пять лет отработал в Свердловске-44 в отделе оборудования УКСа по комплектации основного оборудования, следовательно, не был новичком в этом деле. Естественно, я задавал вопросы руководству, когда предполагается поставка этого оборудования, но ни В. Ф. Новокшенов, ни главный инженер И. С. Парахнюк, ни тем более Л. И. Коврижкин ничего определенного сказать не могли, хотя и говорили, что есть задание о запуске в эксплуатацию пускового минимума в объеме 45 осей первого корпуса. Поэтому я испытал что-то вроде шока, когда, знакомясь с делами, обнаружил, что в спецотделе предприятия хранится оформленный по всем правилам договор с Кировским заводом на поставку во втором полугодии 1956 года 800 машин Т31У (позднее Т-52), да еще с правом досрочной поставки. Договор был оформлен в начале года и подписан И. С. Парахнюком. По-видимому, он был введен в заблуждение тем, что машины в договоре были названы вентиляторами, а на внушительные суммы затрат по договору он просто не обратил внимания.
Теперь это кажется курьезом, но тогда было не до шуток. До начала поставки оставалось не более месяца, а у нас была недостроенной база оборудования, из грузоподъемных механизмов имелось только два трехтонных автокрана, не было такелажников, не было даже стропов. Когда я доложил Новокшенову о наличии договора, он, как мне показалось, вначале даже растерялся; по крайней мере, дал мне задание срочно разослать телеграммы в министерство и на Кировский завод о том, что мы не готовы к приемке таких грузов, а потому просим поставку не производить. Телеграммы я отправил, но сказал Новокшенову, что это бесполезно: остановить такое огромное производство на Кировском заводе и у его смежников (в Омске, Харькове и Ижорах) невозможно. Впрочем, он и сам это понял и начал действовать со всей решительностью. В короткий срок были закончены приемные рампы на базе оборудования, к ним проложены железнодорожные пути. Территория была спланирована, выстроен оградительный забор. К счастью, к нам поступил пятитонный автокран, а также бульдозер на базе трактора С-80.
Новокшенов самолично набирал такелажников, крановщиков, вникал во все подробности предстоящей работы, согласовывал вопросы режима, пожарной безопасности, учета, хранения, добился предоставления комбинату обменного фонда железнодорожных вагонов (120 осей). Разумеется, он действовал не в одиночку, мы помогали ему как могли, но он умел правильно поставить задачу и строго спросить за исполнение. В результате, когда прибыл первый транспорт (40 четырехосных вагонов), он был разгружен, хотя и с немалым трудом. Постепенно работа стала налаживаться, люди стали приобретать опыт, умение. Мне особенно запомнился период с середины 1956 года до середины 1957-го. Это было время больших трудностей, но и больших результатов. В начале 1957 года закончилось строительство склада № 98. Правда, в здании не было отопления, не были смонтированы мостовые краны, да и складской персонал полностью отсутствовал, но все-таки это было крытое складское помещение, где можно было хранить изделия, боящиеся атмосферных осадков. Так как немногочисленный рабочий персонал был занят на базе оборудования, то для разгрузки на складе № 98 Новокшенов привлек ИТР, в основном из службы эксплуатации. Он лично возглавлял эту бригаду. Случалось, люди вручную загоняли в склад груженые вагоны, а после выгрузки выгоняли вагоны из склада. Любопытно, что сотрудники отдела оборудования к этой работе не привлекались, а мне поручалась только организация работ. Было довольно стеснительно руководить бригадой грузчиков, в которую входили главные специалисты, начальники не существующих пока цехов и подразделений, а зачастую и сам директор. Но работа шла, хотя и не всегда гладко.
Помню один довольно курьезный случай. Прибыл под разгрузку крытый четырехосный вагон, отправленный из Московской конторы МТС. Половина вагона была загружена и тщательно отгорожена дощатым щитом, к тому же опломбированным. Другая половина вагона была оборудована под теплушку, в которой помещалась военная охрана. Вагон прибыл поздно вечером, я организовал его приемку от охраны, вызвал бригаду «титулованных» грузчиков. Сам я уехал в отдел проработать почту, а затем — домой. Примерно в два часа ночи «ребята» явились ко мне с взволнованным и даже испуганным видом. Они сообщили, что, вскрыв деревянный щит, почувствовали сильный запах яблок. По их мнению, в вагоне были отгружены какие-то ОВ, а иначе зачем была нужна охрана? Надо отметить, что в те времена предоплата не производилась, отгрузочные документы и счета отправлялись получателю после отправки груза и зачастую попадали к нему, когда груз уже был выгружен. Так было и в этот раз. Я как мог успокоил товарищей, сказав им, что никаких ОВ мы не ждем, и что такого рода изделия отгружаются в специально оборудованных транспортных средствах. Но ребята ушли, не поверив мне и ругаясь в мой адрес довольно откровенно. В 8 часов утра, когда я приехал на работу, меня вызвал Новокшенов, поручил собрать и отвезти грузчиков на склад, выгрузить вагон, но предварительно разобраться, что это за груз, который так напугал людей. Когда мы приехали на склад, я залез в злополучный вагон, а бригада остановилась метрах в восьми от него. Я оторвал доски щита и увидел, что вагон был загружен разным хозяйственным инвентарем. Там были ведра, лопаты, метелки, пожарные топоры и… Выглянув из вагона, я принял позу римского трибуна и воскликнул: «Сапоги!», после чего громко расхохотался. Что делать — я был молод и еще не научился сдерживать свои эмоции. Товарищи сильно обиделись (пожалуй, вполне справедливо), все они были старше меня и по возрасту, и по должности. Чтобы успокоить рассерженных людей, я вернулся в вагон и выставил напоказ несколько пар великолепных хромовых сапог — именно они и издавали приятный сладковатый запах. Вагон был разгружен, в самом углу стоял небольшой, аккуратно изготовленный ящик, в котором находился секретный прибор «Ирис» (из-за него-то и была приставлена охрана).
В 1959 году к нам начали поступать машины Т-56 для третьего корпуса. Я к тому времени успел составить полную комплектовочную ведомость ожидаемой поставки. Мне были подробно известны и количество, и номера сборок. Неожиданно из главка пришло указание отгрузить родственному предприятию один комплект компрессоров Т-56. Причем в указании были перечислены не номера чертежей сборок компрессора (130 гр. 01), а номера чертежей их установок (130 гр. 16). Я тогда зашивался в работе, поэтому не стал особенно вникать — почему указаны компрессоры по группе 16, тем более что мы не получали эти изделия собранными установками, да и разница между компрессором и его установкой несущественная. Я просто дал указание подобрать комплект (44 узла пяти разных сборок), погрузить и отправить изделия (с охраной). Я упустил из виду то обстоятельство, что с некоторого времени к нам стали поступать компрессоры с несколько измененными номерами сборок (например, вместо 130-М-0007 стали поступать 130-01-0017, вместо 130-01-0008—130-01-0018 и т. д.). Узлы были погружены в вагоны и отправлены в адрес получателя. И тут-то я спохватился — почему не рассмотрел чертежи установок (130 гр. 16) и нет ли тут какой-нибудь «крамолы». Так и оказалось. Нужно было отправить компрессоры новых сборок, так как в них были применены усиленные лабиринтные уплотнения (впоследствии у нас силами наших служб «старые» лабиринты были заменены «новыми», специально присланными от поставщиков). Между тем транспорт уже ушел. Я пошел к Новокшенову вместе с чертежами и доложил о своей грубой ошибке. Разобравшись, директор сказал: «С твоим наказанием решим после, сейчас надо действовать». Через наше министерство он связался с МПС, эшелон был перехвачен на Красноярской железной дороге, возвращен, компрессоры были заменены нужными сборками и в тех же вагонах, с той же охраной отправлены получателю.
Я вспомнил лишь некоторые эпизоды из своей работы в УКСе, работы, насыщенной до предела разными событиями, работы трудной и зачастую неблагодарной. Рядом со мной трудилось много людей, разных по характеру, по способностям, по взглядам на жизнь. Однако основная цель у нас была одна — построить комбинат. Этой цели мы добились.
В заключение я попробую по памяти перечислить тогдашних сотрудников комбината, с которыми вместе работал или имел деловые контакты: И. С. Парахнюк, М. Ф. Карпушев, В. П. Носоченко, Гавриков, Е. И. Короткий, В. А. Алексеев, Л. И. Коврижкин, Ю. И. Овчинников, В. Е. Тонконог, Н. В. Неверов, Б. С. Чирков, Г. Ф. Мальцев, И. П. Бушков, М. Л. Аркадьев, А. Е. Селиванов, В. И. Синицын, Б. Н. Прилепский, В. Д. Лапшин, Е. С. Спасенко, В. Ф. Денисенко, Ф. Басалай, Суворов, Н. Косовская, Г. Кухтикова, Ерминов, Волхов, Шорохов, Инжелевский, А. Желтова, З. Ф. Амирова, Доброжанская, Гурьяшина, Н. Н. Жуков, Е. А. Розенбаум, С. А. Чепурко, В. Е. Перминов, Е. С. Обухович, В. А. Мокин, Л. П. Тапхаров, С. Т. Забадаев, И. А. Дорошенко и многие-многие другие — удивительные люди, совершившие трудовой подвиг!