Мощь подземного гиганта
Сначала я окончил Ивановский энергетический техникум по специальности «электрические сети и системы». Анализируя свой личный опыт и опыт друзей, с которыми учился и потом работал, я пришел к выводу, что критерий отбора студентов в систему Минсредмаша был примерно одинаков. Отбирали не на выпускных экзаменах, а заранее, то есть на третьем-четвертом курсах институтов и техникумов, когда до защиты дипломов оставалось еще достаточно много времени.
Основных критериев было два: во-первых, хорошая успеваемость; во-вторых — рабоче-крестьянское происхождение. Мы заполняли анкеты на тридцати страницах, где требовалось указать массу сведений: был ли на оккупированной территории, имеются ли родственники за границей, есть ли в семье интернированные, раскулаченные — и так далее. Как я понимаю, эти анкеты изучались в компетентных органах, и всё решалось там.
Лишь после защиты дипломов приезжал представитель министерства и предлагал выпускникам поехать на то или иное предприятие. Настоящие названия объектов в таком разговоре не фигурировали. Говорили примерно так: вы направляетесь на предприятие Белова, вы — на предприятие Петрова.
Я мечтал попасть на Дальний Восток. Но получилось так, что я немного опоздал на распределение, и представитель министерства сказал мне, что Дальнего Востока нет. «А что есть?». — «Красноярск, Свердловск, Томск». Я был не очень силен в географии и спросил: «Который город дальше?». — «Красноярск дальше всех». Вот так я и оказался в Красноярске.
Поехали мы туда группой из 11 человек в одном поезде и надеялись, что в Красноярске будем вместе. А там нас распределили по разным объектам: трое попали в Красноярск-45, один — на Красноярскую ТЭЦ, а меня и всех остальных направили в Железногорск (тогда он назывался Красноярск-26).
Хотя, если быть точным, сначала мы отправились на стажировку Томск-7, где объект был запущен раньше. Там нас готовили к работе начальника смены электроцеха, и после сдачи экзамена мы вернулись в Красноярск-26.
Пока атомная ТЭЦ не была запущена, мы работали кураторами и числились как электромонтеры 7-го разряда. А потом, когда атомная станция заработала, все стали начальниками смены или мастерами.
Мы присутствовали при запуске уникальной атомной станции. Ведь горно-химический комбинат, все его основные здания и сооружения, а также и реактор, и атомная станция находятся под землей, в скале, на глубине 250 метров, с расчетом на случай ядерного нападения.
На этом объекте я проработал 39 лет.
К работе нас готовили основательно. На атомной станции в Красноярске-26 начальником электроцеха был очень требовательный человек — Владимир Иванович Никиташин, заставлявший нас, молодых, зубрить правила по электробезопасности. А еще раньше, когда на третьем курсе мы были на практике в Горьком, нам попался не менее строгий начальник электроцеха местной ТЭЦ. Он сразу заставил нас наизусть выучить правила по электробезопасности и потом лично экзаменовал каждого. Он говорил: «Каждый пункт правил написан кровью, и кто их не выполняет, тот рано или поздно за это поплатится». В то время аварии случались довольно часто: кто-то по ошибке залез на не отключенную линию, кто-то выключатель не тот выключил…
Бывают ошибки дурака, который ничего не знает, а бывают ошибки профессоров — случается, и они ошибаются. Когда я был начальником смены электроцеха, произошел такой случай. Приходим на работу — нет старшего электромонтера, который проработал в цехе двадцать лет и по праву считался профессором в своем деле. Звоним жене — она рыдает. Муж собрался на работу, а она посетовала: электроплитка не работает, ничего на ужин не приготовлю. Он заторопился, стал соединять спираль, не отключив плитку из розетки; дотронулся — и убило.
И как начальники смены, и как электрики или электромонтеры мы ежегодно сдавали экзамены. Система контроля была очень жесткая: если ты не сдал экзамен, он назначается во второй и даже в третий раз. Не сдашь в третий раз — на полгода отстраняют от работы. И пока не подготовишься, не пересдашь экзамен, тебя не восстановят на рабочем месте.
Об этом, кстати, вспоминает и Николай Федорович Луконин — один из моих директоров. Мы с ним вплотную проработали семь лет. Луконин был директором, а я — главным инженером реакторного завода. Он был жестким, требовательным человеком и придерживался твердой политики — не скрывать никаких аварий.
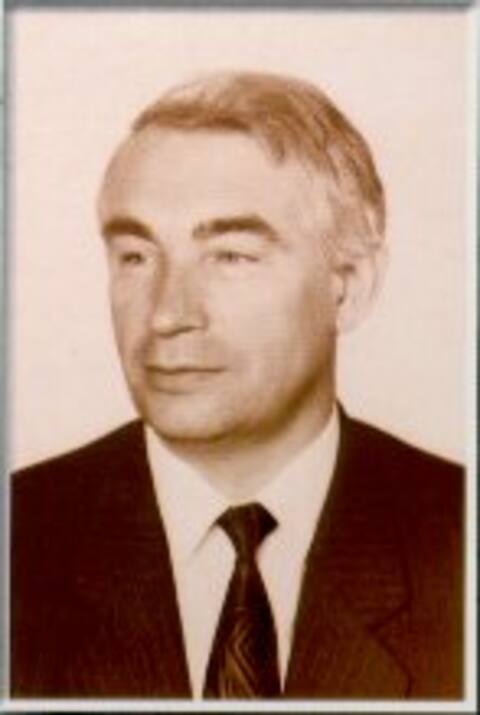
Конечно, главным инженером я стал не вдруг. Вначале поступил в Красноярске-26 в вечерний политехнический институт. Потом меня направили в аспирантуру Московского энергетического института на факультет атомных станций, но жена не захотела переезжать, поэтому пришлось отказаться. Ну, а после меня назначили главным инженером.
Работа мне нравилась. В то время были проблемы — и в Нововоронеже, и у нас — по парогенераторам, в силу коррозии или каких-то других причин. И нужно было в этом разбираться. Мы заключили договор с МЭИ и начали совместно работать в этом направлении. Меня направили в целевую аспирантуру, и я там учился, каждый год ездил сдавать экзамены. Я занимался конкретной темой — повышением надежности работы, изучением процесса коррозии и так далее. Моя диссертация была закрытой, а посвящалась она улучшению физико-химических процессов с целью увеличения теплосъема и, соответственно, улучшения наработки оружейного плутония.
Мне везло на хороших людей. В то время заведующим кафедрой МЭИ был Монахов, потом — видный ученый Рассохин Николай Георгиевич, заместитель председателя ВАКа. Ну, а курировала меня профессор Тереза Христофоровна Маргулова. Это вообще удивительный человек. Она могла пролистать десять-двадцать страниц твоей работы и сразу объяснить, что тут не так, а затем сформулировать твои мысли кратко и четко. Очень талантливый ученый. Не случайно она дважды становилась лауреатом Государственной премии, а по ее учебнику атомных станций до сих пор учатся студенты.
Служба главного инженера — это технический мозг любого предприятия. От нее зависит надежность работы и будущее развитие, поэтому служба главного инженера на всех предприятиях является важнейшей структурой, поддерживающей работоспособное состояния всего оборудования. Безопасность — это тоже прерогатива главного инженера. На ядерных объектах, как вы понимаете, этот аспект очень важен, потому что ошибки у нас недопустимы. Если что-то происходит на обычной тепловой станции (например, остановился котел, вышла из строя турбина, трубопровод разорвался) — это локальные аварии. А у нас любая локальная авария может обернуться глобальной.
Поэтому проблема энергобезопасности в Минсредмаше всегда рассматривалась как приоритетная.
Раз в год главных инженеров собирали на одном из предприятий отрасли, где мы знакомились с местными наработками и обменивались опытом.
Тогда существовала почти четырехуровневая система контроля техники безопасности. В первую очередь, по линии администрации: отдел техники безопасности, инженер по технике безопасности. Дальше — общественный контроль. В профсоюзе была комиссия по технике безопасности, имеющая право проверки. Кроме того, для контроля из среды рабочих выбирались общественные секретари. А еще в ЦК профсоюза существовало специальное управление по технике безопасности, и там были технические инспектора, которые имели право доступа на все предприятия. Они расследовали тяжелые несчастные случаи.
Я хорошо это знаю, потому что сам был внештатным техническим инспектором ЦК профсоюза. Ежегодно в ЦК профсоюза нам читали лекции по технике безопасности. Это очень помогло мне систематизировать знания и опыт не только в своей сфере деятельности, но и в других областях.
Все директора раз в год отчитывались на так называемой балансовой комиссии в Москве. Подводились итоги выполнения плана за истекший год, ставились задачи на следующий год. Туда нужно было приезжать с главным бухгалтером, с начальником планового отдела. На комиссии нас, директоров,начинали шерстить по всем статьям.
Когда Евгений Ильич Микерин стал начальником главка, он завел практику совета директоров: раз в год собирал нас на том или ином предприятии. Здесь тоже заслушивались отчеты и осуществлялся обмен опытом.
В нашем главке среди предприятий, которые выпускали оружейный плутоний (Томск, Челябинск, Красноярск), было соревнование за переходящее красное знамя. Итоги этого соревнования подводились ежегодно, и представители министерства вручали переходящее знамя предприятию-победителю.
Вот такая продуманная и серьезная была система. Ее нелегко будет вернуть. Все уже понимают, что вместе с водой выплеснули ребенка.
Слышал, что на других комбинатах случались обострения отношений между главным инженером и директором. Но у нас, слава Богу, сохранялись партнерские отношения между этими двумя службами. Я ведь всю историю комбината прошел, что называется, от сохи; и когда уже стал, как сейчас принято говорить, топ-менеджером, то прекрасно понимал: нужно строить работу так, чтобы была единая команда. Иначе не будет продвижения вперед.
Были тяжелые времена, когда вдруг все рухнуло, и нам сказали, что оружейный плутоний больше не нужен. До этого никто не помышлял о конверсии, хотя надо было заранее о ней думать. В итоге оказалось так, что мы составили планы, а финансирования нет.
Чтобы решить эту проблему, мы приглашали на комбинат президента Бориса Николаевича Ельцина, и он приезжал к нам. Результатом этого визита стал указ по поддержке структурной перестройки атомной промышленности в городе Красноярке-26 на Горно-химическом комбинате. Ну, как всегда, первые полгода об указе еще помнили, а потом вообще про него забыли, и снова нет денег! Чиновники от указа отмахивались: не мы-де его принимали. Полная неразбериха. Время было такое — «лихие» 90-е годы.
Речь шла о выживании, и нам приходилось производить то, что покупают.
Когда мы столкнулись с реалиями рынка, я собрал знакомых мне ученых из Красноярска, из новосибирского отделения Академии наук, ректоров университетов и институтов. Я сказал им: «У нас сложности, производство закрывается. Давайте вместе внедрять имеющиеся у вас разработки». Мы отобрали четыре проекта и три из них успешно внедрили.
За эти новые направления взялся мой хороший учитель, бывший заместитель главного инженера по реакторному производству Павел Васильевич Морозов.
Одно из направлений — сварка методом взрыва для алюминиевых заводов. Мы быстро ухватили эту технологию, поскольку у нас было много горняков, имелись склады для взрывчатки. Эта технология позволяла производить сварку за доли секунды там, где обычным методом сварщик работал бы половину смены. В итоге мы захватили этот рынок на четырех заводах, и нам удалось выручать живые деньги.
Вопрос конверсии был самым сложным. У нас конверсия предусматривала строительство заводов по регенерации топлива, — то есть отработавшее ядерное топливо с атомных станций, в том числе с украинских АЭС, должно было перерабатываться и возвращаться к циклу.
Мы начали строить завод РТ-2. А в 1989 году (я уже был директором) вдруг получаем телеграмму министра Льва Дмитриевича Рябева: прекратить строительство, денег нет, финансирования не будет. А я еще и строителям должен. На стройке работают три тысячи человек, и все просят деньги. И завод, в который уже было вложено около 350 миллионов долларов, завод встал! К этому времени здания, вспомогательные сооружения, основные корпуса были построены примерно на три четверти.
Ну, а тут начался процесс демократии, все начали восставать на все: на медицину, на сельское хозяйство, на атомную энергетику. И в Красноярске было много шума, что якобы Горно-химический комбинат загадил весь Енисей. Подписывались заявления общественности, к этому подключили знаменитых людей, — например, известного писателя Виктора Петровича Астафьева, который выступил против нас в газете «Известия».
Недалеко от нашего комбината есть знаменитое казачье село Атаманово, где предок Михалкова, его дед Василий Иванович Суриков, некогда был атаманом. Пресса начала кричать о том, что из-за нашего комбината там дети в пионерлагере не отдыхают. И меня тут же вызывают в госкомитет по природопользованию, которым в то время руководил Владимир Иванович Данилов-Данильян.
Ну, я-то бывал в Атаманово и знал, что дети там нормально живут. Иду в Минприроды, и по дороге, как обычно, купил газеты. Смотрю — а в «Известиях» заметка на первой странице: «Как хорошо отдыхают дети в пионерлагере «Таежный». Прочитал, попросил в киоске еще десять газет. Прихожу в Минприроды — меня встречают хмурые лица. А я им протягиваю «Известия»: «Почитайте! Надеюсь, вы не думаете, что это я подготовил статью?». — «Не может быть! А как же Виктор Петрович Астафьев?..» — «Его просто кто-то обманул».
Знаменитому писателю подсунули ложную информацию. Я ему неоднократно об этом говорил — ведь я был знаком с этим замечательным человеком. Не раз к нему обращался: «Виктор Петрович, приезжайте, посмотрите своими глазами, ведь обманывают вас!». — «Ладно-ладно, приеду». Так тянулось примерно полгода, и вновь появилась его статья в газете «Красноярский рабочий». После этого я не выдержал: «Всё, Виктор Петрович, завтра я за вами присылаю машину». Целый день я водил Астафьева по комбинату, а потом он сказал: «Валерий Александрович, извини! Я думал, что здесь бардак, как во всей стране, а у вас порядок». И больше он ни слова не написал против нас.
Но завод РТ-2 не удалось отстоять от «демократических» нападок. С болью я смотрел, как разрушаются недостроенные корпуса. Думал и думал, как их можно использовать.
Между тем возникла проблема: отработавшее ядерное топливо с реакторов РБМК девать было некуда. По этому поводу появлялись разные идеи. Мы с Ленинградской АЭС начали проектировать железобетонные контейнеры, хотели эти контейнеры размещать у нас. Но контейнер получался довольно дорогой: стоимостью около миллиона долларов.
А я как раз побывал за границей — нам разрешили посетить завод по переработке отработавшего топлива. В мире всего четыре таких завода: два во Франции, два в Англии. Они перерабатывают топливо со всех стран Европы, имеют большую прибыль. Мы с главным инженером проекта РТ-2 Борисом Николаевичем Гусаковым из НИКИЭТа посетили оба завода в Англии. Оказалось, что наши заводы, рассчитанные на 1500 тонн, занимают территорию в пять раз большую, чем английские, рассчитанные на 1600 тонн. И я понял, что если мы достроим наши заводы, они не будут конкурентоспособны.
Я говорю Гусакову: «Борис, ты посмотри, какой компактный завод, разве мы сможем конкурировать?». Он отвечает: «У нас нормы такие».
Вернувшись домой, я поручил проектантам нашего филиала НИКИЭТа проработать этот вопрос. Сначала они восприняли всё в штыки, но потом все же нарисовали эскизный проект.
А тут меня перевели в Москву, и я подкинул эту идею Адамову. Он сказал, чтобы я готовил коллегию. На первой коллегии вопрос не решился, потому что 7 человек было «за» и 7 — «против», а сам Адамов воздержался. Но я продолжал продвигать эту идею, и в итоге наш проект оказался самым выгодным. На месте недостроенного РТ-2 построили сухое хранилище — единственное в мире, которое удовлетворяет всем требованиям.
Уже работая в Москве, я привлек французскую компанию CGM, чтобы они дали техническое заключение на этот проект. И они это сделали, а мы учли их замечания.
В 2012 году сухое хранилище было запущено. И я рад, что приложил к этому руку, что не дал разрушиться стройке, в которую вложили 350 млн. долларов.
А ведь на коллегии рассматривались разные предложения. Одни предлагали сделать контейнеры, но это выливалось в 650 миллионов долларов, плюс хранилище. Вторые предлагали опускать топливо в скважины, третьи планировали хранить все в контейнерах. Росэнергоатом сначала не очень поверил в мою идею. Тогда я, будучи заместителем министра, привез специалистов на место, все им показал и рассказал.
И теперь я горжусь, что другого такого хранилища в мире нет.
В 1989 году мы начали решать проблему создания уран-плутониевого топлива для загрузки реактора БН800. Это было поручено трем комбинатам: Челябинску, Томску и Красноярску. У нас получился самый дешевый проект, потому что основную переработку можно было разместить под землей. Правда, когда меня перевели в Москву, дело застопорилось. Но, слава Богу, нынче должны запустить это производство. Получены опытные образцы, то есть таблетки со смешанным топливом. И, в принципе, производство и сбор реакторов на быстрых нейтронах с использованием (в том числе) плутония будет развиваться и дальше.
Сегодня на ГХК строится опытный центр по переработке отработавшего топлива, чтобы лет через 10-15 построить нормальный завод. Есть смысл перерабатывать топливо. Его накопилось уже приличное количество, и хранилище может быть заполнено в ближайшее время.
Я горжусь своим родным комбинатом. На ближайшие полвека ему обеспечена хорошая перспектива.
