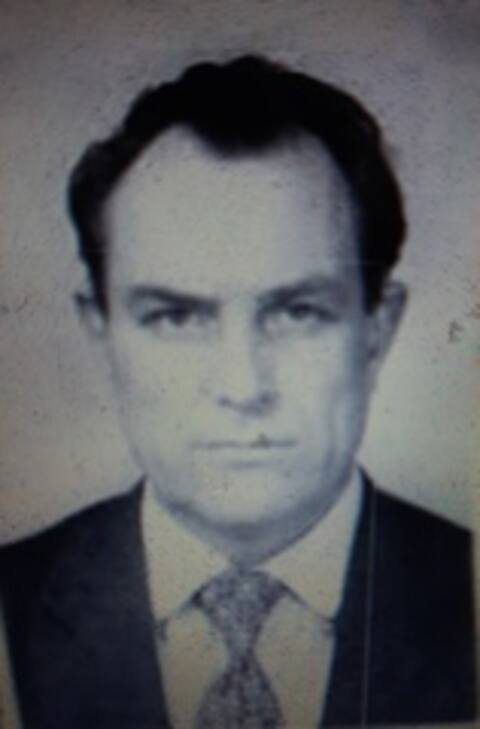Тетрафторид в молочных бидонах
Как и многие первые работники комбината, я приехал в Ангарск из Свердловска: молодых дипломников, трех химиков и трех физиков, в 1960 году отправили на преддипломную практику. Физики проходили практику на электролизном заводе (он тогда уже вовсю работал). А мы, химики, — на участке УПОЭЗ (участок переработки отходов электролизного завода). Дел для будущих инженеров-химиков там было много: мы мыли арматуру, осадители. Наше будущее место работы — химический завод — только строилось. Мы ходили, смотрели на уже стоявшие корпуса. На стройке работали заключенные. Их привозили на машинах с охраной. Руководили строительством специалисты АУС-16. Я проходил практику и писал диплом по «участку Т», где должна была вестись переработка гексафторида урана в тетрафторид. (Интересно, что «объектом Т» в период секретности почтового ящика 79 назывался электролизный завод. А вот «участок Т» — уже совсем другое производство.) Наш участок был фактически самостоятельной разработкой группы комбинатовских авторов под руководством Владимира Поликарповича Черепанова. В дальнейшем судьба изобретения сложилась непросто — участок был создан, запущен в работу и успешно функционировал три года, пока в дело не вмешался главк. По распоряжению главка наше оборудование демонтировали и отправили в город Электросталь. Там его собрали и запустили на обогащенном уране. За что получили Ленинскую премию! Наши, конечно, пробовали возмутиться. Но начальник главка генерал Александр Дмитриевич Зверев был суровый мужик. Сразу вспомнил нам 1963 год, когда весь электролизный завод чуть не «полетел». И ведь никого тогда не посадили. Должностей, конечно, многие лишились. Но главное — удалось сохранить производство.
В 1960 году «участок Т» находился в стадии разработки. Велся монтаж оборудования. Пройдя практику и защитившись, молодые специалисты вернулись на производство уже полноценными работниками. Меня сразу назначили мастером в смену. Чтобы было понятно, насколько молодым был коллектив, надо знать, что начальником смены тогда был Михаил Васильевич Сапожников, который был всего на год старше нас! Но, несмотря на возраст, от молодежи требовали очень много. Я и мой однокурсник Саша Корюшин писали дипломы у Феоктиста Ивановича Косинцева. Я по «участку Т», а Саша (Александр Порфирьевич) — по фторному производству. Защитились, приехали на работу. Бывший руководитель дипломных работ встретил нас словами: «Ты, Лавелин, пойдешь в 32 цех. А ты — на «участок Т». Я думал, он ошибся: «Феоктист Иванович, так наоборот надо!». А он в ответ: «Пойдете туда, куда я сказал! Надо все уметь и все пройти!». Вот так мы поменялись местами. И я попал вместо урана на безводный фтористый водород.
Первый цех химзавода — 31 (впоследствии Хим-1), был запущен под Новый год — 31 декабря 1960 года. Перед этим двойным праздником химики по нескольку дней не были дома — готовились к пуску. Первоначально, пока не был готов цех 32 (Хим-2) по производству фтористого водорода, сырье к нам привозили из Кирово-Чепецка. Но мы усиленными темпами старались запустить свое производство. За месяц до пуска нового цеха № 32 меня перевели туда. И 12 июня 1961 года я уже был мастером первой пусковой смены. Пуск цеха прошел хорошо. Первое время проблем с оборудованием не было — ведь мы работали на маленькой нагрузке. А вот через год начался тихий ужас. Противогаз был как друг родной. Везде течи, капеж, коррозия. Мы искали причины — но одно цеплялось за другое. Само оборудование было недоработанным. Новая отрасль, все новое, нужны были дополнительные анализы, не было методик. Тут нам очень помогла инженер ЦЗЛ нашей смены Инесса Иннокентьевна Гаченко — она и методики сама искала, и делала в смену по нашей просьбе не предусмотренные графиками анализы. На других предприятиях атомной промышленности в это время было не лучше. В Кирово-Чепецке тетрафторид приходил на производство в молочных бидонах (да-да, в жестяных бидонах, в которых в СССР возили молоко!). И этот бидон вручную переворачивали в «аппарат № 25» для фторирования. Такой аппарат был и у нас, в цехе 31. Но хоть бидонов не было. Их заменили более современные на тот момент контейнеры. Не лучше было и с промсанитарией в целом по отрасли. В качестве «дозиметра» использовалась стеклянная палочка, тоньше пишущей ручки. В ней находился сорбент. В устройство на протяжении рабочего дня просачивался воздух. И сколько миллиметров в палочке «закрасилось» — столько «норм» человек набрал за день. Понятно, что это была очень примитивная оценка. Но тогда, в период становления отрасли, она была единственной из возможных.
Над тем, чтобы привести цех в достойное состояние, мы работали сами. Изобретали, улучшали, модифицировали. Но по закону все наши улучшения надо было вначале излагать начальству на бумаге, проверять, и лишь потом вводить в производственный процесс. А мы, молодые специалисты, конечно, с бумажками возиться не хотели. «Партизанили», меняя что-то на свой страх и риск. И все на это закрывали глаза. А потом в другом цехе с этим попались. Случилась авария из-за какого-то несанкционированного нововведения. И вышел приказ директора: проверить все изменения и бумаги по ним! Мы перепугались, конечно. И тут же все наши улучшения оформили одним документом. Большая бумажка получилась… Наверное, директор сильно удивился.
В те времена в Минсредмаше существовал хороший порядок ежеквартального обмена информацией между предприятиями с родственными производствами. По фтористому водороду работало три завода. По ним и проходила рассылка данных — квартальных технических отчетов с указанием всех основных показателей работы: расходных коэффициентов, качественных характеристик, объемов потерь, основных параметров процессов и т.д. Коллеги всегда были в курсе, как у кого идут дела, периодически ездили друг к другу в командировки и ничего не скрывали — это невольно заставляло каждое предприятие подтягиваться к лучшим показателям. Ведущим цехом фтористого водорода во времена запуска ангарского цеха был Кирово-Чепецк.
Мне неоднократно приходилось там бывать, и я знал потом этот цех, как свой. Когда же я приехал в Кирово-Чепецк в первый раз, в 1964 году (в статусе заместителя начальника цеха), то его начальница Любовь Васильевна Сушенцева даже не удостоила меня разговором, коротко отрезав: «Идите к технологу». И в самом деле: о чем было со мной говорить, если наши показатели были хуже. Технолог цеха Альберт Тимофеевич Лоскутов был очень грамотным и толковым инженером и в первый раз показал цех сам. Он немного шепелявил и при последующих моих визитах всегда говорил: «Иди и шмотри шам, ты тут вше знаешь». Когда же наш цех догнал Кирово-Чепецк, а по определенным характеристикам даже вырвался вперед, со мной уже подолгу беседовали и Любовь Васильевна, и Альберт Тимофеевич! Так мы и учились друг у друга.
Когда прошло 10 лет с пуска завода, к ангарчанам приехал профессор ГИПХ Илья Лаврентьевич Серушкин выдавать Знак качества по фтористому водороду. Профессор прошел по цеху и спросил: «Вы работаете, что ли?». Все удивились: «Конечно, работаем!». — «А почему не пахнет ничем?!». Все ангарские новшества не прошли даром — в цехах теперь спокойно можно было ходить без противогаза. Чистота была идеальная. Свое рабочее место химики привели в порядок. Получили свидетельство об изобретении на «Систему обратной ректификации». Довели качество продукции до мировых стандартов. После этого наш метод стали применять в Кирово-Чепецке, Перми и Томске, где оборудование до сих пор «газовало».
Были, конечно, и трагические моменты. Так, в 1962 году авария унесла жизнь аппаратчика. А 4 февраля 1979 года погибли начальник смены и контролер ОТК. Причем начальник смены погиб как герой. Когда произошла авария и в цехе ничего не было видно, он бегал по помещению и искал людей, переживая, чтобы все вышли. Вот и «нахватался».
Я считаю Михаила Васильевича Сапожникова не только своим первым учителем на производстве, но и человеком, который в 1962 году спас мне жизнь, вытащив меня из двадцатикубового аппарата, в который мы, два «умника», залезли осматривать сварные швы, никого не предупредив. У меня на лестнице при выходе из аппарата отказала фильтрующая коробка противогаза, дыхание перехватило, а Сапожников не растерялся, успел меня подхватить. Конечно, об этом грубейшем нарушении ТБ мы помалкивали и рассказали об этом лишь на моем шестидесятилетии. Но после того случая при работе людей внутри аппарата наверху всегда неотлучно находилось два наблюдающих, потому что одному вытащить человека из аппарата практически невозможно.
Наш химзавод, без преувеличения, был лучшим в отрасли. В этом заслуга персонала, который самоотверженно и без устали трудился. Люди не жалели себя, не искали легких путей, а твердо шли к цели и росли не только как специалисты, но и как личности!