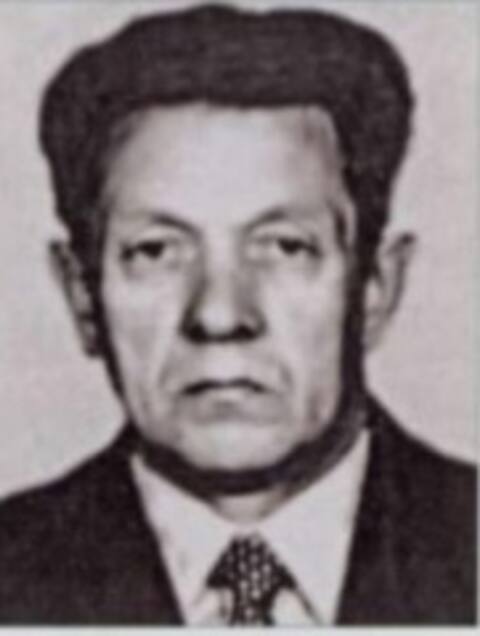Мой путь к урану
Определенную роль в выборе моей геологической профессии сыграло увлечение красивыми камнями еще в детстве, когда я оказался в строящемся на Кольском полуострове г. Хибиногорске (ныне Кировск). Здесь в то время форсировались работы по разведке и добыче «камня плодородия» — апатита. Сахаровидный апатит и кроваво-красный эвдиалит в нашем детском восприятии были окаменевшими лопарскими сахаром и кровью. Мы находили их в отвалах шурфов и штолен.
Началась война. Отец, инженер-строитель треста «Кольстрой», работал на сооружении военного аэродрома в районе станции Оленья, расположенной в 20 — 25 километрах от города. Этот аэродром, превратившийся в наше время в крупную авиабазу, и сейчас используется авиацией, в том числе оснащенной атомными и термоядерными зарядами. Именно отсюда 30 октября 1961 г. взлетел самолет-носитель Ту-95-202 с супербомбой — «изделием 202» весом 26 тонн и заданной мощностью взрыва около 50 мегатонн в эквиваленте тринитротолуола, взявший курс на полигон островов Новая Земля. Но все это случилось через 20 лет, а тогда мы эвакуировались на Урал и через два месяца прибыли в г. Каменск-Уральский, а точнее — на расположенный в его окрестностях УАЗ — Уральский алюминиевый завод, конечную цель нашего пути. Здесь, на УАЗе, в то время сосредоточились специалисты и оборудование алюминиевых заводов страны, которые были эвакуированы из западных районов. Директором этого единственного теперь в стране завода «крылатого металла» был назначен директор Днепровского алюминиевого завода (Запорожье), наш будущий министр Е. П. Славский, с именем которого связано решение атомной проблемы в СССР.
Состав преподавателей в школе №2 УАЗа был сильным. Многие прибыли сюда из крупных городов западной части страны. Еще раньше я увлекался книгами исследователей Арктики и Заполярья — Амундсена, Нансена, нашего Урванцева. Однажды преподаватель физики увидел у меня книгу «В поисках радия» Д. И. Щербакова и предложил мне сделать доклад об Х-лучах, вручив мне еще и книги В. Рентгена и М. Кюри. К этому времени я уже проявлял большой интерес к еще не совсем мне понятной, но иногда мелькавшей на страницах газет теме урана и его колоссальном (если считать в энергетическом эквиваленте) преимуществе по отношению к другим источникам энергии. Интерес к этой теме прививал и наш преподаватель физики. На выпускном вечере директор школы, поздравив нас с вступлением в новую жизнь, во время застолья, устроенного по этому случаю, сообщил, что эти «сто грамм» выделены школе по указанию директора комбината Е. П. Славского. Несмотря на то, что для меня это были первые сто граммов, я до сих пор убежден, что там не было и 25 — 30 градусов!
Оставив Каменск-Уральский, УАЗ и многих своих друзей и товарищей по учебе, мы возвращались в Мончегорск на комбинат «Североникель». По пути, во время одной из стоянок поезда в г. Буе, я успел сбегать в нотариальную контору, снять три копии с выпускного аттестата и тут же направить одну из них в Московский геологоразведочный институт. Вскоре через директора комбината я получил вызов в Москву. У входа в здание МГРИ шла распаковка ящиков с учебным имуществом: институт только что возвращался из эвакуации, из г. Семипалатинска. При беседе с Е. Е. Захаровым, заместителем директора по учебной части, определилась моя профессиональная судьба. "Зачем вам на геологический факультет, если у вас в аттестате все пятерки, да и физику с математикой вы обожаете? Советую на геофизический", — сказал он. А чтобы я не брыкался, добавил: "К тому же, на геологический факультет у нас прием закончен. Геофизика — это та же геология, но на более современном уровне, с применением самых современных физических методов поисков месторождений". Этим доводом он окончательно сразил меня.
На третьем курсе у нас началась специализация — электро- и сейсморазведка, магнито- и гравиметрия, радиометрия и физико-химические методы поисков месторождений. Практика проводилась на полигоне института под Загорском (ныне Сергиев Посад), на окраине села Рязанцы. Руководитель практики профессор А. И. Заборовский в беседе с нами перед выходом на профили сказал, что мы сделаем модели аномалией физических полей. По его указаниям мы вырыли приличную по нашим представлениям канаву глубиной около двух и длиной до двадцати метров, заложили туда старые буровые штанги (это был прообраз аномалий над залежью железных руд), посыпали их солями ряда химических элементов, добавив серной кислоты (это были аномалии электрического и физико-химического полей). После этого Александр Игнатьевич сказал: "А теперь заложите все это сверху вон той помойкой и засыпьте землей, как было". В ответ на наше недоумение, при чем здесь помойка, он пояснил: "Нам нужна еще аномалия для радиометрии, а в этой помойке находится один миллиграмм радия, раствор которого вылила сюда по ошибке лаборантка одного из институтов. Перерабатывать ее им было дорого, да и вряд ли можно извлечь радий обратно, поэтому они решили продать нам помойку вместе с радием за восемьсот рублей". Вот такая у нас произошла первая встреча пусть не с самим ураном, но с продуктом его распада — радием.
Курс ядерной физики нам читал известный физик-ядерщик И. С. Шапиро. Он обратил наше внимание на только что вышедшую в «Желдориздате» книгу Г. Д. Смита «Атомная энергия в военных целях» и настоятельно просил нас с нею ознакомиться. В этой книге были изложены в том числе и последствия атомных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Так я впервые узнал о реальном энергетическом эквиваленте урана, ужасах атомных бомбардировок, не зная еще о том, что и мне придется принимать участие в отечественном атомном проекте. Я защитился, получив диплом горного инженера-геофизика. По этому случаю мы устроили празднества, позже отметили и первомайские праздники. Деньги кончились, стипендии больше не будет, и мы, новоиспеченные инженеры, уже не первый день полуголодные лежали в общежитии на Студенческой. "Давай-ка, Николай, — сказал мне Володя Плахотник, такой же молодой инженер, но «чистый» геолог, — позвони своему полковнику. Он ведь давно тебя разыскивает в своей хитрой организации, может, что-нибудь подбросит?". И я позвонил. "Давай срочно сюда, на Солянку, 12. Я тебя разыскиваю уже несколько дней, виза кончается!" — не сказал, а скорее прокричал он в телефонную трубку. «В хозяйство Мальцева» — так было записано в моем направлении на работу, которое мне вручил полковник Печенев. "Вот тебе загранпаспорт, вот 4500 рублей на экипировку и другие расходы (годовая стипендия! — успел удивиться я), вот билеты до Берлина", — сказал он и добавил, что до 11 мая я должен пересечь границу в связи с окончанием срока визы.
Через два дня с Белорусского вокзала под звуки песни «А я остаюся с тобою, родная навеки страна… Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна» мы, медленно набирая скорость, расставались с Москвой, с Родиной. Вот и Брест, таможня. Таможенник, выложив из чемодана все металлические предметы, вытаскивает оттуда подушку, крутит ее в руках. Тут я вспомнил, что в ней у меня еще год назад спрятан золотой корпус часов, которые я купил по просьбе сестры, но так и не отправил, продав механизм для оплаты расходов на печатание и оформление дипломного проекта. "А это у вас что такое, молодой человек?" — "Подушку купил в Москве, на Тишинском рынке, а что в ней — не знаю", — слукавил я, взяв грех на душу. "Сейчас проверим, это похоже на золото, — продолжил он и исчез куда-то на несколько минут. — Держите вашу поклажу, это не золото", — подытожил он, возвращая мне документы и чемодан. Так закончилась история с моим приобретением у входа на рынок, ловко разыгранная тишинскими жуликами перед неопытным покупателем. Он вручил мне мое «золото» обратно, я с досады пошел в туалет, бросил его в унитаз, дернул за ручку, и оно куда-то уплыло.
Итак, мы в Берлине на Силезском (Восточном) вокзале. Знакомясь с ним, я обратил внимание на большой застекленный проем с надписью «Ресторан». Там никого не было, и только за одним столиком сидел посетитель в сером спортивном костюме с тиролькой на голове, сзади которой, как и положено, торчал хвостик. Немец, решил я. Вдруг этот немец, не вставая с места, начинает манить меня пальцем. Что за фамильярность, подумал я и отвернулся. Но тут же почему-то вновь повернулся в сторону этого немца, и та же картина — пальчик! Я начал внимательно присматриваться к нему и признал в этом «немце» Николая Брезгунова — прошлогоднего выпускника нашего института. По его предложению мы успели посетить Рейхстаг, из пола которого он выковырял себе на память кусочек смальты. «Пол, по которому ходил Гитлер», — говорил он. До отхода поезда мы со всей своей группой успели посетить только что открытый памятник нашим воинам в Трептов-парке. На следующий день, уже поздно вечером, мы достигли конечной цели нашего пути — города Карл-Маркс-Штадта (ныне снова переименованного в Хемниц). «Хозяйством Мальцева» называлась, как мы поняли по прибытии сюда, войсковая часть №27304, впоследствии преобразованная в Советско-Германское акционерное общество «Висмут» (СГАО «Висмут») со штаб-квартирой в Зигмар-Шенау на одной из окраин города, рядом с железнодорожным вокзалом. В то время в его систему входили управления материально-технического снабжения, капитального строительства, административное и геологическое, ряд других вспомогательных подразделений, ну и, конечно, режимные службы с политотделом. Инфраструктура, или так называемые Объекты, были представлены к нашему приезду уже довольно широкой сетью горнодобывающих, разведочно-поисковых и обогатительных предприятий, а также предприятий инженерно-технического обеспечения.
Начальником этого «хозяйства» был М. М. Мальцев, еще в недавнем прошлом боевой генерал-майор, прошедший через горнило Великой Отечественной войны. Он командовал военно-строительными частями, сооружая сначала оборонительные рубежи, начиная с Брянска, а затем участвуя в военно-инженерной подготовке наступательных операций Верховного командования. Заключительной, по иронии судьбы, стала для него операция по разгрому фашистской группировки под Сталинградом, разработанная Генштабом в 1942-1943 гг. и получившая название... «Уран»! В 1943 г. после успешного завершения операции М. М. Мальцев был отозван на строительство комбината «Воркутауголь», а в 1946 г., как он пишет в автобиографии, был «направлен в Германию со специальным заданием по разработке урановых месторождений и добыче стратегического сырья».
Новейшую историю создания и расширения сырьевой базы для нашей урановой промышленности и открытия месторождений урана в Германии можно начать с Ялтинской конференции глав правительств трех союзных держав в 1945 г., на которой была установлена демаркационная линия раздела Германии между секторами стран-союзников и СССР. Фактическая линия соприкосновения войск стран западной коалиции и СССР проходила восточнее демаркационной линии, в частности, в районе Саксонских Рудных гор, которые в основном оказались на территории, занятой силами США, Англии и Франции. Знавшая о существовании урана в Рудных горах, вслед за войсками была послана американская комиссия по оценке его запасов. Немецкие геологи оценивали их скромно, едва насчитывая пятнадцать тонн, а перспективы открытия новых месторождений урана практически отрицали. Эту цифру подтвердила и американская комиссия. Сразу после отвода войск западной коалиции за демаркационную линию, уже в 1945 г., сюда, с той же целью оценки запасов урана в Рудных горах, направляется советская комиссия под руководством С. П. Александрова. Он был одним из первых ветеранов отечественной урановой промышленности. Еще в 1914 г. вместе с Д. И. Щербаковым, тогда еще студентом Петербургского горного института, он принимал участие в Московской радиевой экспедиции, нацеленной на обнаружение радиевых минералов в Средней Азии. В дальнейшем он был активным участником восстановления и эксплуатации рудника Тюя-Муюн в 1922 — 1925 гг., а в 1938 — 1954 гг. был связан с изучением и развитием производительных сил северо-восточных районов страны. Именно в этот период он был отозван для работы в вышеупомянутой комиссии.
В ее состав входил крупный минералог, впоследствии (1953) академик А. Г. Беехтин и ряд других крупных советских ученых-геологов. Их оценка запасов урана была в десять раз больше той, которую дали американцы. Начавшийся в связи с этим разворот работ резко увеличил и эту цифру, которая уже к концу 1946 г. выросла еще в десять раз и достигла 1500 тонн. Это большая заслуга советских геологов и геофизиков — Р. В. Нифонтова, Д. Ф. Зимина, Г. Н. Котельникова, П. В. Прибыткова, И. В. Чиркова и других специалистов, прибывших в Саксонскую промышленно-разведочную партию, — пионеров открытия крупнейших запасов урановых руд в Рудных горах. Обнаружение урана с помощью ревизионных работ в старых горных выработках, пройденных ранее для добычи других элементов пятиметалльной формации, открытие новых месторождений более современными методами и аппаратурой следовали одно за другим. Запасы урана росли как снежный ком, рассыпавшись широким ожерельем по северным склонам Рудных гор, увеличив ранее полученные результаты в десятки и сотни раз! За эти достижения М. М. Мальцеву, С. П. Александрову, Р. В. Нифонтову в 1949 г. были присвоены звания Героев Социалистического Труда, а Д. Ф. Зимину, Г. Н. Котельникову, А. А. Шафранову, В. М. Шишову и ряду других работников, осваивавших открытые месторождения, — звания лауреатов Сталинской премии первой степени. В мае 1947 г. Саксонское горное управление было преобразовано в отделение Советского государственного акционерного общества цветной металлургии «Висмут», а в феврале 1948 г. М. М. Мальцев, уполномоченный доверенностью ГУСИМЗ (Главное управление советского имущества за границей) при Совмине СССР, подписал акт сдачи-приемки немецких горнорудных предприятий в собственность СССР в счет репараций Германии.
Но вернемся к началу моей трудовой деятельности в этом огромном горнорудном производстве. В большом просторном кабинете, куда мы пришли с начальником геофизического отдела В. И. Холминым, за Т-образным столом сидел М. М. Мальцев. После короткой беседы со мною он спросил у Виктора Ивановича: "Куда мы его?" — "В Беренштайн, на Объект 7, там у нас пока никого нет, кроме военнослужащих", — ответил Виктор Иванович. На следующий день я был в Беренштайне — пограничном с Чехословакией городке, часть которого была расположена на ее территории и называлась Вайперт. Директором Объекта в то время был Наум Маркович Темкин, в котором я признал руководителя профкома на апатитовом руднике в г. Кировске, где в начале тридцатых годов я учился в школе. Так сходу у нас установились добрые отношения с воспоминаниями о Хибинах, горах Кукисвумчорр и Юкспор, где добывали апатит-нефелиновые руды. Обрисовался и круг моих задач после первого знакомства с Объектом на шахтах и непосредственно в рудных забоях, по которым меня весьма бойко прогоняли военнослужащие. Они практически бежали по выработкам, низко наклонившись, чтобы не удариться о какой-либо выступ пород сверху или сбоку. Я понял, что это была проверка: каков новый начальник, сможет ли он так же быстро бегать и лазать по горизонтальным и вертикальным выработкам? Несмотря на то, что горные выработки были для меня в новинку — ведь нас в институте готовили в основном на полевые поисковые работы, экзамен я выдержал.
Наши солдаты и офицеры были моей первой опорой в работе. Сразу после победы в Великой Отечественной войне они были брошены в новый бой, за уран, и развернули это сражение широким фронтом, выполняя функции от начальников шахт, главных инженеров, геологов, геофизиков до рядовых радиометристов-операторов, коллекторов, взрывников и других специалистов. Работали они прекрасно. У меня с ними установились хорошие дружеские отношения. Круг задач, теперь уже наших, сводился к радиометрическому контролю за процессом добычи руды, к сокращению ее потерь на всех этапах производства, обеспечению исправной аппаратурой шахт и поисковых эманационных работ, организации каротажного отряда, лаборатории, камеральных работ и многому другому. Надо отметить, что вскоре у меня появились и первые гражданские специалисты — жена нашего политрука майора Васина, которую я назначил заведующей лабораторией, и жена главного геолога шахты №34 Сергея Игнатьевича Егорова, руководившая камеральной группой. Мастерской по ремонту геофизической аппаратуры руководил Миша Тылисов — мой большой помощник из солдат, ранее угнанных из нашей страны и призванных в армию при их освобождении в Германии. Как же они не любили немцев!
Вместе мы ввели количественную калибровку рудничных радиометров (эталонов не было!) непосредственно при их получении и спуске в шахты, используя для этой цели те же руды, но запаянные в металлические трубки. Располагая датчики на установленных от них расстояниях, радиометрист отмечал положение стрелки прибора для каждого из сортов руд. Это были прообразы будущих ЭМК — эквивалентных мер концентрации, которые в дальнейшем я широко использовал в различных областях радиометрии. Для оценки возможных потерь руды в отвалах я ввел их гамма-съемку с составлением планов на маркшейдерской основе. К концу года геологоразведочная партия Объекта, благодаря проведенным ревизионным работам и эманационной съемке, существенно прирастила запасы урана, обеспечив перспективы развития объекта.
По-прежнему оставался острым вопрос обеспечения аппаратурой всего комплекса радиометрических работ. На Объектах радиометры насчитывались единицами, в лучшем случае — десятками, а требовались сотни и тысячи! На одном из совещаний у начальника геологического управления Р. В. Нифонтова в присутствии М. М. Мальцева геологи и геофизики приняли решение о производстве аппаратуры непосредственно силами СГАО «Висмут». В г. Цвиккау, в тридцати километрах к западу от Зигмар-Шенау, был создан Объект 100. Быстрыми темпами на смену отечественным ПР-5, 6, 7 разрабатывается серия «висмутовских» радиометров: 1. РЗ — радиометр забойный, с индикацией гамма-излучения на слух головными телефонами; 2. РУ — радиометр универсальный, с удлиненной гильзой (датчиком), позволявший контролировать шпуры, высокие «потолки» в блоках благодаря телескопическому держателю датчика, имевший слуховую и визуальную индикацию и ставший на многие годы основным прибором. Основной вклад в разработку этих и последующих приборов внес молодой талантливый радиоконструктор Ю. И. Иванов. Все разработки этого периода связаны с его именем. Мы на Объектах принимали участие в их испытании, освоении и при необходимости в уточнении отдельных параметров совместно с Юрием Ивановичем, который был постоянным и заинтересованным представителем завода на наших Объектах. Радиометр РАС разработан Л. Ч. Пухальским совместно с группой военнослужащих. За какие-то два-три года геофизическая служба «Висмута» была полностью укомплектована необходимой аппаратурой. Ряд приборов поставлялся в соцстраны и даже в СССР, где я их встречал много лет спустя на наших урановых предприятиях.
Вслед за провозглашением ГДР встал вопрос о снижении себестоимости добываемого урана. Одной из таких мер было объединение, укрупнение Объектов. Наш Объект в Беренштайне соединили с Объектом 4 в Аннаберге, и я был назначен главным геофизиком этого укрупненного Объекта 7. Одним из моих друзей был начальник ОТИЗ (отдел труда и зарплаты) Джон Викторович Быстров. Будучи сыном генерала МВД, он часто по воскресеньям посещал друга своего отца — одного из заместителей М. М. Мальцева. Каждое такое посещение он широко афишировал у нас в столовой. "Анчоусы опять отведывал у генерала — ах, какая прелесть", — хвастался он. Но однажды я встретил Джона в сопровождении старшего лейтенанта Саши Беспалова, тоже моего друга.
— Куда ты его? — спросил я. — За что?
— За анчоусы, — ответил Саша.
Так мы расстались с Джоном Викторовичем. Больше я его не встречал. Как вскоре стало известно, тот заместитель Мальцева, у которого Джон ел анчоусы, сбежал на Запад, в американскую зону. Впоследствии его достали оттуда наши «длинные руки» и, закрученного в ковер, вернули обратно, отправив в Москву. Этот случай побега своего заместителя дорого обошелся М. М. Мальцеву. Как рассказывал много лет спустя его сын В. М. Мальцев, к этому времени уже член-корреспондент АН РФ, Михаила Митрофановича вскоре после этого происшествия вызвали к «хозяину». Он прилетел на служебном самолете в Москву. Дома все переживали: что-то будет завтра? Мать собрала поутру кое-какую поклажу, необходимую в таких случаях, рассчитывая на худшее, и он на машине, поданной от Л. П. Берии, отправился к тому на доклад. "Сулейменов не мною назначен, его направили ко мне по вашему указанию", — сказал Мальцев. Они поговорили на эту тему еще немного. "Ну ладно, пойдем к «хозяину», — сказал Берия, — он нас ждет. Как он скажет — так и будет". Шагая с трубкой по кабинету, И. В. Сталин расспросил Мальцева, как идут дела по урану, каковы перспективы увеличения добычи. Ответами Мальцева он, по-видимому, остался доволен: «Хорошо, поезжайте обратно, продолжайте свою работу». Но вскоре после возвращения Мальцева из Москвы в СГАО «Висмут» прибыл В. Н. Богатов. Поползли слухи, что это будущий преемник начальника нашей войсковой части №27304. С тех пор в течение почти года мы видели их только вместе и искренне сочувствовали в душе нашему руководителю и организатору СГАО, догадываясь о его замене.
Летом 1951 г. в Аннаберге меня посетили Л. Ч. Пухальский, к этому времени ставший начальником геофизического отдела в управлении СГАО, и П. И. Солонков — старший инженер отдела по аппаратуре. Они предложили мне должность главного геофизика на самом крупном в то время Объекте по добыче урана — Объекте 2 в Обершлеме. Не без колебаний я согласился: главным геофизиком там работал мой приятель по институту Петр Ларионов. "Ты обрати внимание на малый выход беднофабричных руд", — сказал мне в напутствие Леонид Чеславич. Нас рокировали. Город Обершлема до войны был всемирно известным курортом радоновых вод, концентрация радона в них превышала 20 тыс. эман (2 млн кюри) на литр при фоновой концентрации всего около одного эмана. Здесь до войны был построен прекрасный ансамбль «Куротель», основу которого составлял четырехэтажный Ш-образный корпус. В нескольких километрах к западу располагался Шнееберг и примерно на таком же расстоянии к востоку — Ауэ, горнорудные предприятия Объекта 9, набиравшие к этому времени темпы роста добычи урана, и в первую очередь месторождение Нидершлема-Альберода, где главным геологом работал мой сокурсник по институту Альберт Дьяконов. Впоследствии он говорил: «После моего прихода и анализа геологической обстановки на месторождении я развернул направление горных выработок на девяносто градусов, и пошел большой уран».
Работая в СГАО «Висмут», мы не только обеспечили развивающуюся атомную промышленность страны сырьем, давая львиную (до пятидесяти процентов) долю урана, когда отечественная горнодобывающая урановая отрасль еще только набирала силы, но были готовы выполнить другие задачи в этом направлении. Мы с чувством выполненного долга, с достоинством и благодарностью к немецкому народу покидали Германскую Демократическую Республику. В памяти остались замечательные люди. Помимо упомянутых выше, это главные геофизики шахтоуправлений — Ю. И. Булгаков, И. Г. Жувагин, И. Г. Зотов, А. Г. Кузнецов, А. И. Смелов, A. M. Сорокин и многие, многие другие, с которыми мне довелось вершить эти большие дела!