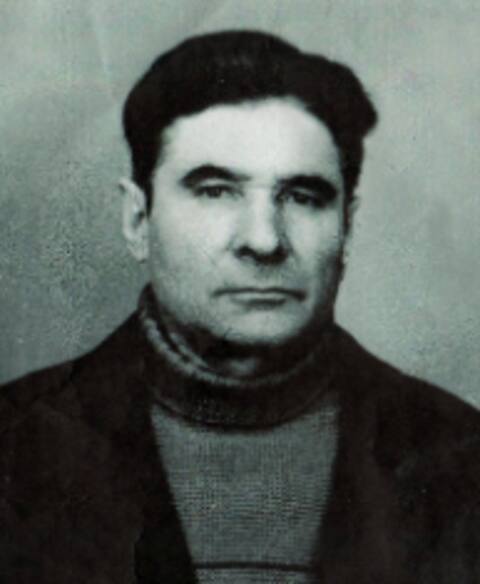За рулем своей судьбы
Я родом из села Новоселова Красноярского края. Закончил Новоселовскую среднюю школу, поступил в Канский политехнический техникум на специальность «Эксплуатация и ремонт автотранспорта». Окончил его с красным дипломом. И был тут же направлен на работу — на Абаканский гипсовый комбинат. Месяц слесарем, месяц шофером. А в 1960 году сразу назначили начальником автотранспортного цеха. И работать бы мне в Абакане. Но, видимо, судьба вмешалась: 2 ноября 1960 года меня призвали в ряды советской армии. И направили не абы куда — в город Ангарск. Как «большого человека», привезли меня сюда не на грузовом транспорте, а на пассажирском автобусе. Одного! На автостанцию приехали, а там во всеуслышание объявляют: «Товарищ Ивлев, вас ждут в диспетчерской!». Я пошел в диспетчерскую. Там меня встретил лейтенант и препроводил в воинскую часть, в шестой поселок.
Три дня я прослужил в Ангарске и был направлен в подразделение части — в Шаманку. Туда прибыл — меня к командиру призвали. Он говорит: «Солдаты сидят без света уже 6 месяцев. Сможешь двигатель починить?!». Я говорю: «Могу!». А потом, как вник в вопрос, понял: да они не из-за поломки впотьмах сидят, а из-за бесхозяйственности! Я отправляю отшлифовать коленчатый вал. Месяц проходит, нет вала. Еду разбираться — он лежит нешлифованный, уже ржаветь начал! Я жаловаться — что такое?! За запчастями солдат в командировки гонял. И починили ведь. А то прямо каменный век развели! И это в советской армии, в благополучном шестидесятом году.
Раньше в армии три года служили. Но можно было демобилизоваться раньше, если поступишь на дневное отделение в институт. Из 80 солдат нам, трем младшим сержантам, разрешили поступать. Так я стал иркутским студентом. Но поучиться очно пришлось недолго. Раньше же отработка была прежде учебы. Всех в колхоз на картошку да на свеклу. А нас, водителей, бетон возить отправили. Я много чего навозить за месяц практики успел: и бетон для иркутской набережной, и для сельхозинститута, и для Нархоза. А 30 сентября 1963 года я стал работником автохозяйства АЭХК и перевелся на заочное отделение. Поработал слесарем, потом назначили бригадиром. Кстати, к тому времени я уже женился, сын у меня маленький был. Супруга получила квартиру (она у меня работала фельдшером в ГПТУ №34, но числилась за ведомственной МСЧ -28 АЭХК). Вот и я на комбинат пошел. Помню, как квартиру получили — так я всем старался помочь. Солдаты, из моих сослуживцев, кто демобилизовался и пока работу и жилье не нашел, останавливались у нас. Многие потом тоже в Ангарске остались.
22 февраля 1965 года меня назначили механиком. А в 1967 году я стал начальником мехколонны. И работал бы себе спокойно. Но нет! В 1971 году мой товарищ, начальник автотракторной службы полковник Тихомиров спрашивает: «Пойдешь ко мне на АНХК?!». И 15 мая 1971 года я ушел к нему — возглавлять автохозяйство. А их автохозяйство тогда от нашего, по-моему, лет на 10 отставало. Ну что это такое — склад металла под высоковольтной линией?! Отругал, начали убирать. А 1 июня, две недели спустя, ко мне приехал начальник автохозяйства АЭХК Ежов. Мол, давай обратно. «На тебя карты упали — цех новый организуется». А как я могу уйти?! Только ж на другое место пришел. Нет, говорю. Через неделю за мной сам Носоченко приехал. И я крепко призадумался. Пошел к начальству АНХК. А они отпускать не хотят, говорят: уволишься — будет тебе выговор с занесением. Выговор кому охота?! Вот и сижу, не дергаюсь. И тут меня сам Новокшенов вызывает. Я ему объясняю: «Не отпускают, трудовую испортят. Вы меня потом с такой трудовой разве возьмете?». А он мне: «Пиши заявление! И выходи ко мне на работу. Возьму с выговором!». Я уволился, пришел. А через год Виктор Федорович говорит на собрании: «Вот, Ивлев пострадал за народное дело!».
Народ, можно сказать, был моей прямой обязанностью! Считайте, весь «квартал» наш цех БиСС курировал. Все дороги были в моем хозяйстве, «квартальские» и на площадке. ЖЭКи, "Современник", общежития, спортзалы, профилакторий, детские лагеря. Да еще и сельское хозяйство! Подшефные селяне: Савватеевка, Щербаковский совхоз и совхоз имени Ленина в Усть-Удинском районе. И полагалось помогать с копкой картошки, с покосами, строительством коровников и зернохранилищ. В нашем цехе было 500 человек. Но, чтобы выполнить задание партии, нас не хватало. На село выходил весь комбинат. Каждое лето пахали, сеяли, косили. А осенью бились за корнеплоды.
Сегодня, конечно, все по-другому: сапоги тачает сапожник, а пироги печет пирожник. Сложно понять, для чего атомщики, вместо производства урана, косили колхозные поля. И еще как косили. В моем цеху 28 комбайнов стояло! И два огромных трактора К-700, с дом величиной. Рядом с автобазой площадь была, где мы водителей из цехов обучали на трактористов и комбайнеров.
А как искали участки под покос! Рыскали по полям и пролескам, где трава повыше — в Мамонах, в районе Радиостанции. А потом это сено собирали, сушили (не дай Бог погода плохая будет и оно сгниет!) и везли на Ольхон. Там-то трава не растет. Зато в ту пору в огромном почете было овцеводство. По Байкалу везде отары овец ходили. Вот мы и поставляли им сено.
А картошка? Люди в поля ехали как на отдых. С песнями, с бутылочкой. Хорошо, не в цех ведь — на природу. А мне до природы разве? Мне надо было копать! Директор и Носоченко каждый день приезжают, фронт работ смотрят. «Почему тут не выкопали?». Ну, потому, что были начальники, которые умели управлять коллективом, а были и не очень умелые. Мужики подопьют, а комбайны-то стоят. Но я ни разу никого не «заложил». «Да, — говорю, — Виктор Федорович, есть тут недоразумения. Но решаем». Некоторые, кто проштрафился, стоят красные. Но потом копали «как по маслу»! И не одной картошкой занимались: на морковку ездили, на свеклу. Все было. Почему в те времена была низкая производительность труда? Да как раз потому, что кроме своего дела вот этим и занимались. Но партия требовала…
Однажды мы утопили бетонные плиты, 136 штук. А дело так было: отправили баржу с этими плитами в подшефный совхоз; по-моему, зернохранилище надо было строить. Ну, а с плитами — Ивлева: мол, разгружай. И все бы ничего, да берег оказался мелкий. Для подхода баржи надо минимум три метра, а там два… Искали-искали, голову сломали. Но нашли вроде подходящий участок для разгрузки. Плиты выгрузили с грехом пополам, я домой отправился. И только до дома доезжаю, мне звонок: «Езжай назад! Смыло их!». Сам Новокшенов сказал: «Давай, вытаскивай». И что делать?! 136 плит. Тяжеленных! Пришлось водолазов нанимать, чтобы плиты под водой искали и обвязывали, а потом тянули их машинами на берег. 134 плиты вытащили. Куда еще две девались, не знаю до сих пор. Зернохранилище было построено, задание обкома мы выполнили.
Виктор Федорович Новокшенов вообще очень заботился о быте жителей «квартала». Мог утром или поздно вечером совершить объезд территории, а потом замечания делал: «Почему фонарь не горит? Почему грязно?». Цеху, отвечавшему за эту сферу, наверное, доставалось порой от него. Помню, мы первыми в Иркутской области установили неоновые рекламы на домах. Рекламщики у нас в цеху сидели. Новокшенов проедет по «кварталу» — и к нам. Кричит: почему буква сгорела?! А если вдруг отключали воду или свет в жилом районе, то у нас тут же «запаска» срабатывала. По полдня без света не сидели, как бывает сейчас. И дорог таких, как нынче в городе, не было. Утречком идешь — уже очищенные от снега дорожки. Машин было столько, чтобы они могли обеспечить чистку всех тротуаров и дорог промплощадки. Снег выпал — и тут же трактора выходили на уборку, в любое время суток.
Перед директором все вставали по стойке "смирно" и содержали хозяйство в идеальном порядке. Кстати, и летом не было у нас плохих дорог. Комбинат имел свою асфальтовую установку, и качественный асфальт мы выпускали сами. За все с нас спрашивали по полной. Помню, на турбазе Явтушенко сгорел дом. Кто-то на ночь оставил незащищенный нагревательный прибор, вот и вспыхнуло. Так у нас стоимость дома из зарплаты вычли. На всех разделили — и нате вам.
А еще Новокшенов, это все знают, экзотические оранжереи в Ангарске организовал. Была у нас свой инженер-дендролог Алла Максимовна Белова, которая за эти растения отвечала. Так вот мне прямо «с ножом у горла» пришлось теплицы организовывать. Приказ директора был. И силами комбината мы построили теплицы. В теплицах выращивались, ясное дело, не огурцы-помидоры, а цветы: каллы, розы, хризантемы. Их потом на всех мероприятиях вручали работникам. Особенно на женский день 8 марта.
Ту же турбазу Явтушенко сами построили. Да и много чего. А еще раньше молодые специалисты комбината работали в детских лагерях. Представляете, парни с производства? Они над шпаной шутили, пугали их. То в противогазы ночью оденутся, то в простыни. Весело, конечно. Но потом директор все же решил нанимать профессиональных воспитателей из числа педагогов.
С 1959 года у меня имелись водительские права, но первую личную машину удалось приобрести только 25 февраля 1971 года. "Москвич-403". Но был и казенный автомобиль — УАЗ. Вожу автомобиль и сейчас, в 78 лет. У меня "шевроле-нива" — поддерживаю отечественного производителя! С машиной связана семейная традиция: как только я ее получил, мы поехали на Байкал. И потом много лет всей семьей выбирались на природу — в лес, в тайгу. Ещё я пчеловодством занимаюсь. Пчелок стал держать с 25 июля 1978 года и по сегодняшний день не оставляю это дело. Было время — до 50 ульев держал. А теперь всего три осталось. Помогают мне ученики — Павел Ермолюк и Геннадий Тихонов. Сам я уже не могу, возраст. Но стараюсь все же заниматься пчелками, ученикам что-то подсказываю. Ведь у меня не только опыт, но и диплом пчеловода. Учился заочно, сдавал экзамены в Иркутске. Приглашали меня потом пчеловодом в совхоз "Бельский". Но я отказался. На себя работал.
Когда я уходил на пенсию, наше хозяйство уже не было большим. Все передали городу — дороги, общежития, ДК «Современник», спортзалы. Лагерь и Савватеевская дорога в область ушли. Так что не было уже во мне как в хозяйственнике большой надобности. Но работу часто вспоминаю. Помню, завидовал порой тем, кто на производстве. Все у них ясно. Есть директор, главный инженер, главный механик… на промплощадке руководителей много. Есть кому направить в нужное русло, с кем по работе посоветоваться. А я один… Всю ночь сижу, приказы пишу. А утром директор вызывает — это не то, то не так. Но все равно работать было интересно. И свои 44 трудовых года на комбинате я вспоминаю с радостью.