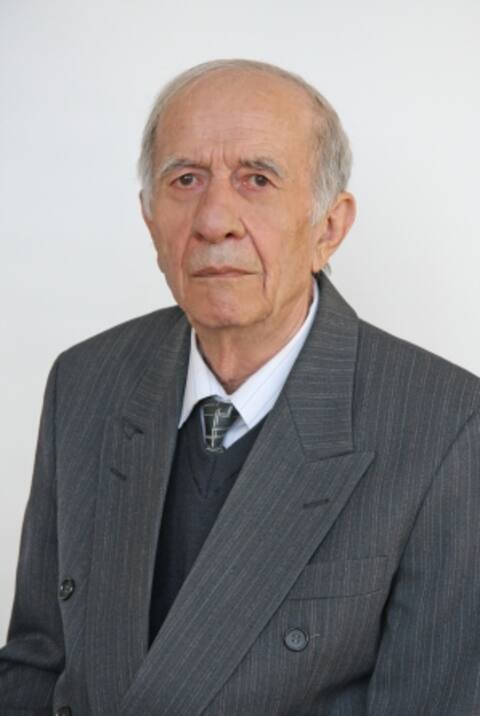Эпоха энтузиазма
Это было интересное время! В 1958 году я окончил Московский энергетический институт. Наш вуз готовил очень хороших специалистов, и, куда бы ни попадали его выпускники, они быстро вливались в коллектив. Уровень знаний был высокий.
Моя дипломная работа, связанная с ракетной техникой, была «закрытой». Защитился я на «отлично»; руководителя на защите не было, и он из-за этого очень расстроился, боясь, что меня заберут к себе ракетчики.
Но Минсредмаш был могущественной организацией (тогда еще я этого не знал). В министерстве мне сказали, что я распределен в «среднюю полосу». Никакие наши пожелания по будущему месту работы не рассматривались, и нас четверых отправили в почтовый ящик № 520. Среди нас, кстати, был и мой одногруппник, сын Никиты Сергеевича Хрущева Сергей.
С собой в качестве багажа я взял только небольшой чемодан с грампластинками 20-х годов. Оформляли нас в одноэтажной хибаре, дали по 1200 рублей, велели в определенное время прибыть во второй зал Внуково и сесть под часами. Друзья спрашивали нас, куда и зачем мы едем, а мы только смеялись, ведь мы ничего не могли сказать.
В аэропорту к нам подошел мужчина, попросил немного денег и велел следовать за ним. Мы вышли на летное поле (охране этот мужчина сказал, что мы с ним) и чуть в стороне увидели самолет. Погрузились, взлетели. Летели очень низко, казалось, цепляя даже верхушки елей. Прошло где-то полчаса, и мы вышли на безжизненное поле, затем сели в автобус. Недолгий путь — и вот перед нами прекрасный город с ухоженными улицами, невысокими домами. Это был Саров, раньше он назывался «Приволжская контора», Москва Центр-300, Арзамас-16, Кремлёв.
Разместили нас в общежитии (бывший женский монастырь), в семи километрах располагался мой завод по производству атомной бомбы. Я попал на основное производство, а остальных взяли в филиал МИФИ и в вычислительный центр.
Приняли меня очень хорошо, как давнего знакомого. Все объяснили, я расписался в инструкции по безопасности. Сотрудники относились ко мне доброжелательно, а в последующем — с большим уважением.
Я работал в 106-й лаборатории, и, можно сказать, изготавливал «детонатор» бомбы (источники, которые инициировали первые реакции деления в бомбе). Работа проходила в очень «грязных» условиях; тогда я впервые почувствовал, что мои коллеги — потенциальные «смертники». Режим был настолько секретный, что мои коллеги даже не знали, чем я занимаюсь. Не было «болтовни», все было засекречено: названия плутония, урана и т.д. обозначались в цифрах. Ко мне никто не мог приехать, общаться было нельзя.
А вот снабжение было великолепным, денег — тьма. Были надбавки к зарплате за работу в «активной» зоне (40%), за секретность; были премии. За 2 месяца я мог скопить на автомобиль за 9000 рублей. При этом стоит отметить, что женского персонала было мало.
Как-то мне сказали, что в Москве в НИИ Химмаш (ныне НИКИЭТ) готовится установка по автоматизации некоторой части производства, и мне пришлось туда поехать. Я увидел не очень качественное сооружение и решил сам все изготовить заново. Мне дали конструкторов, я начал работать с ювелирной точностью. В итоге установка была готова, прошли испытания. На этой работе я изрядно «нахватался» активностей. Примерно через полгода установку представили на конкурс в Министерстве, и она получила первое место. Вот так в 1959 году я стал обладателем почетной премии.
Затем меня стали звать в Димитровград. Одно время была идея создать установку — самолетные реакторы (в качестве двигателя самолета — атомный реактор). Это дало бы возможность длительное время патрулировать над территорией страны. Слава Богу, идея не осуществилась!
Но тогда она меня заинтересовала, поскольку я к авиации неровно дышал с детства. И я решил сменить место работы, но тогда это было сложно. И тут неожиданно случилось ЧП, которое привело к гибели ряда сотрудников моего предприятия. Начались перестановки, и я, воспользовавшись ситуацией, уехал.
Приехав в Димитровград, я страшно удивился, что здесь ничего нет. Стояло буквально три-четыре дома. В небольшом бараке сидело все руководство.
Я сразу принялся осваивать строящийся реактор. «Первенцем» стал реактор СМ-2. Я работал с квалифицированными специалистами, все делали сами. По нашему требованию нам предоставляли все, что было нужно для работы. Иногда возникали внештатные ситуации, которые мы преодолевали. Работали практически день и ночь, без выходных, и ничего не требовали: ни премий, ни зарплат. Много работали с обслуживающим коллективом, обучали их. Затем были работы по установкам «АРБУС» (в течение двух лет она была введена в эксплуатацию), ВК-50, БОР-60.
В Димитровграде сложился коллектив энтузиастов и специалистов, которые ударно, добросовестно и въедливо трудились. До сих пор качественные результаты нашего тогдашнего труда приносят плоды.
В министерстве к нам относились с большим уважением, московские специалисты обращались к нам за советами. Когда строился исследовательский реактор ИБР-2, к нам приехал академик Франк, нобелевский лауреат, и он лично взаимодействовал со мной. Всегда был обмен мнениями между специалистами. Я ездил на пуск БН-350, испытывал ряд топливных элементов БН-600. Сам ездил в Министерство решать вопросы.
В то время мы все были молодыми и энергичными. Однажды на октябрьские праздники мы решили поставить спектакль «Сотворение мира», в котором была мелкая критика в адрес нашего предприятия (в стиле «не регулярно ездят автобусы»). Приглашенные зрители, в числе которых было и руководство института, смеялись от души. Но на следующий день это выступление было названо «антисоветчиной», за дело взялось КГБ, двум сотрудникам пришлось уволиться. Этот случай надолго отбил желание заниматься художественной самодеятельностью.
Мы всегда отмечали дни рождения и праздники всем коллективом. По традиции накрывали стол, пели романсы и арии. Конечно, были подарки, причем всегда с юмором (вроде цинкового бака с кружкой на цепи).
Например, как-то раз после работы мне позвонил друг и попросил прийти помочь ему принять роды у мыши, попавшей в мышеловку. Я, конечно, не пошел, но вскоре на день рожденья подарил ему книгу «Акушерство и гинекология домашних животных». Он же в долгу не остался, оформив на мое имя годовую подписку на журнал «Гинекология» на венгерском языке. И целый год в начале каждого месяца я вприпрыжку бегал к почтовому ящику, чтобы журнал с нехорошими картинками не увидели мои дети. В общем, с юмором у ученых все было в порядке.
В подразделении мы выпускали стенгазеты длиной восемнадцать метров. В них было столько юмора!.. Никто не заставлял это делать, все было по собственной инициативе.
У нас был замечательный директор О. Д. Казачковский. На его юбилей я подарил ему сборник наподобие работы Эйфеля «Сотворение мира», где рассказывалось о его жизни с самого рождения. Об этом подарке он даже написал в своей книге. Это был очень хороший человек. Даже когда он уехал из Димитровграда, мы продолжали общение, совместно решали различные вопросы.
Хорошие воспоминания остались у меня об академике Зельдовиче, соавторе атомной бомбы. Замечательный ученый, он часто выступал, всегда очень интересно рассказывал.
Как-то я приехал по работе в университет под Дрезденом, научным руководителем которого был Клаус Фукс. Это человек, который передавал советской разведке сведения о разработках в области ядерного оружия. Выдающийся физик произвел на меня неизгладимое впечатление.
Но, в принципе, иерархии как таковой не было. Были неформальные лидеры, к ним чаще всего и обращались за советом. К начальнику можно было свободно прийти в любое время. Отношения складывались очень демократичные. В те времена престижными были знания, а не должности.