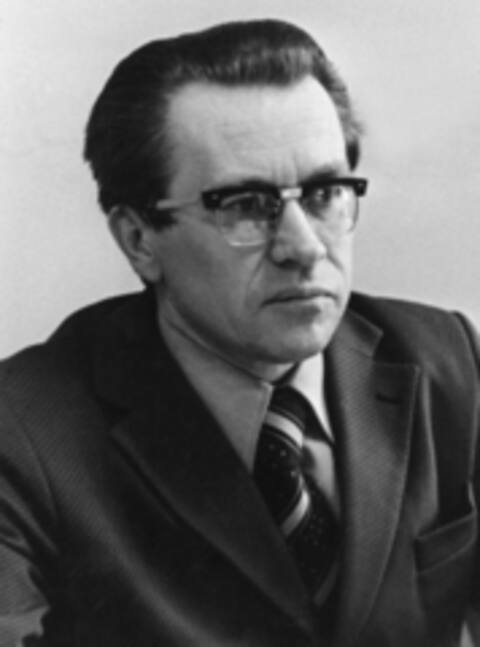О своей жизни и о великих атомщиках
Начну с предыстории. Атомной энергетикой ЗиО начал заниматься с 1946 года с образованием при заводе ОКБ «Гидропресс». Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 28 января 1946 года при Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе было предписано создать «Особое конструкторское бюро по конструкциям гидропаропрессового оборудования (сокращенно ОКБ «Гидропресс»). Начальником и Главным конструктором был назначен Борис Михайлович Шолкович. Название ОКБ «Гидропресс» не соответствовало целевой деятельности Бюро и было дано в целях соблюдения секретности.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 ноября 1963 г. ОКБ «Гидропресс» было выведено с ЗиО и передано в ведение Госкомитета по использованию атомной энергии СССР. Фактически полное выделение ОКБ ГП от ЗиО произошло в феврале 1964 года.
Далее, события развивались таким образом, что между ОКБ «Гидропресс» и заводом все больше появлялось разногласий. Конструкторы ОКБ все реже бывали в цехах завода. Замедлялось технологическое согласование конструкторской документации, задерживалось оформление карточек отступлений от документации, особенно, что касалось дефектов, допущенных в процессе изготовления оборудования. Созревала идея создания собственного заводского конструкторского бюро.
В 1967 году я вернулся на завод из института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук, где проработал с 1961 по 1966 год заместителем директора — главным инженером у академика Христиановича С.А. — директора этого института.
Долгий Алексей Арсентьевич — директор ЗиО принял меня, предложив должность заместителя главного инженера по экспериментальным работам. В то время медленно шло строительство так называемого «стендового корпуса», предназначенного для проведения экспериментальных работ по котельной тематике и для парового котла с передачей от него пара в Экспериментальный корпус ОКБ «Гидропресс» (ОКБ ГП).
Двойной интерес к стендовому корпусу создавал массу дополнительных согласований, разделения ответственности, решения вопросов со строителями, вопросов приема и хранения поступавшего оборудования, приборов, механизмов, материалов. Долгий А. А. и решил назначить меня ответственным по всем вопросам строительства этого корпуса и развития экспериментальных работ на заводе по котельной тематике. В то время уже работала специальная лаборатория по экспериментальным работам под руководством Липеца Адольфа Ушеровича. Она была в составе конструкторского отдела (КО-1).
С моим приходом на завод лаборатория перешла во вновь организованный отдел КО-3. Это произошло 13 июля 1967 года по приказу Долгого А. А. № 427. Окончательное оформление КО-3 произошло 7 декабря 1967 по приказу №693 директора ЗиО Долгого А. А. В дальнейшем мне удалось уговорить Долгого А. А. принять в КО-3 Артемова Льва Николаевича, бывшего работника ОКБ «Гидропресс» и работавшего по моей рекомендации у академика Христиановича С.А. главным конструктором.
Организация КО-3 проходила в борьбе с Министерством и партийными органами, от которых должно было быть получено согласие на новые штатные единицы. Мне помогали Долгий А. А. и Сапожников А.И. (начальник Главка Министерства, бывший главный технолог завода), а по партийной линии — секретарь парткома завода Егоров Ю. А.
Артемов Лев Николаевич, как опытнейший конструктор и руководитель, был назначен, как и Липец А. У., моим заместителем. С приходом Артемова Л.Н. тематика КО-3 была расширена до собственной разработки конструкторской документации по атомной тематике.
В это время между заводом и ОКБ ГП возникло серьезное разногласие по конструкции сепаратора-пароперегревателя, разработанного ОКБ ГП для атомного энергоблока №3 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-440. Конструкция СПП ОКБ ГП была очень сложной в изготовлении (витой конструкции). Срок поставки СПП на Нововоронежскую АЭС был уже очень близок. Требовалось немедленное решение. Лев Николаевич быстро предложил свою очень простую конструкцию СПП (прямотрубную). Долгий А. А. на чертеже новой конструкции написал: «В2, по моему, это хорошо!» (так он образно обратился к генеральному конструктору-директору ОКБ ГП Стекольникову Василию Васильевичу).
Начальник Главатомэнерго Григорьянц Артем Николаевич, в ведении которого была Нововоронежская АЭС, согласился с Долгим А. А. изготовить указанный СПП по чертежам ЗиО, т.е. КО-3. С тех пор КО-3 стал проектировать СПП для разных атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР. Вскоре пришлось перепроектировать СПП для атомных электростанций и с реакторами РБМК. Первоначально ЗиО изготовил СПП витой конструкции для Ленинградской АЭС по чертежам ЦКТИ им. Ползунова (г. С.Петербург). СПП такой конструкции оказался неработоспособным из-за больших деформаций труб из нержавеющей стали при высоких рабочих температурах.
Артемов Л. Н. и Липец А. У. предложили более простую конструкцию, и все ранее изготовленные СПП по чертежам ЦКТИ, были заменены на новые, которые надежно работают уже десятки лет на всех атомных электростанциях с реактором типа РБМК (Ленинградская, Курская, Смоленская).
Также стали проектировать теплообменники, подогреватели низкого и высокого давления и другое оборудование. В связи с перегрузкой КО-1, КО-3 стало проектировать также и котельное оборудование (например, для мусоросжигательного завода в Москве). Помогали КО-2 проектировать оборудование для нефтехимической промышленности. КО-3 были приданы: группа по АСУ-ТП (Кубышин П.Ф), группа программистов и расчетчиков по котлам (Лактанов М.Д.), производство взрывных работ (Жук А. И.). В связи с передачей изготовления регенераторов для газовой промышленности с Невского завода ЗиО КО-3 была поручена разработка конструкторской документации указанных регенераторов. К концу моего первого руководства КО-3, (когда я был назначен главным инженером завода (декабрь 1973 года), КО-3 разрослось почти до 180 человек со многими подразделениями.
Визит Славского
В марте 1974 года на завод приехало большое начальство: Коксанов И. В, из ЦК КПСС, министр судостроительной промышленности Бутома Б. Е, министр Минсредмаша Славский Е. П., министр тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения Жигалин В. Ф. со своими первыми замами, а также заместитель главкома ВМФ Котов П. Г. Впервые на территорию завода въехало сразу 5 «членовозов» (бронированных тяжелых ЗИЛов).
Долгий знал за несколько дней о приезде такой высокой комиссии, и поэтому по его заданию я трудился со своими помощниками допоздна. Накануне приезда комиссии Алексей Долгий решил проверить нашу работу. Зашел ко мне в кабинет, а меня нет!? Тогда он подумал, что я отдыхаю, а может, даже выпиваю (за моим кабинетом был такая комната). Рванул дверь, влетел, чтобы нас «разнести», а мы сидим, корпим над составлением последних графиков выпуска военной и другой техники. «Почему, — шумит, — вы здесь?». Объясняю Алексею Арсентьевичу: «А чтобы никто нам не мешал. В кабинет заглянут, а меня нет, наверное, думают, в цехах, и уходят». Что-то буркнул удовлетворенно и быстро ушел.
Мы готовились к встрече с министрами очень тщательно. Особенно большую работу провел начальник специального технологического отдела В. А. Ардаматский. В кабинете Долгого заранее вывесили соответствующие чертежи по всем военным заказам и графики хода изготовления специального оборудования. Во главе стола сидел Долгий, я с правой его руки. Рядом со мной сел Ефим Славский, за ним Жигалин, Бутома. С левой руки — Коксанов, Котов. В кабинете за столом было 24 человека, остальные просто стояли.
Долгий сделал краткое сообщение по всем заказам: «земля», «космос», «море». Начал говорить о заказах гражданских, Славский его остановил: «Насколько завод отстает по 120 заказу от сроков, установленных ЦК КПСС?» Долгий ответил, что завод, к сожалению, отстает на несколько месяцев, и главной причиной является отсутствие документации на ряд узлов от ОКБ «Гидропресс». Тогда Славский попросил назвать, какие именно чертежи не отдал Стекольников. Я назвал. И добавил, в ряд чертежей только что Гидропресс внес изменения существенного порядка, и нам придется некоторые узлы переделывать заново. Славский не успокоился и попросил показать чертежи.
И тут произошел драматичный эпизод. Я попросил Винникова передать чертежи, а тот вместо того, чтобы их подать, бросил на стол прямо перед лицом Славского. Ефим Павлович побагровел, взглянул на Винникова и сказал сурово: «Ты, щенок, кому бросаешь чертежи? И хотя мне 76 лет, я еще могу тебе врезать за твою дерзость». И поднял кулак. Затем Славский набросился на меня: «Почему не видна здесь роль главного инженера?» Кто-то ответил, что Фадеева назначили только три месяца назад. Славский и Жигалин, посоветовавшись, решили не обсуждать проблемы, а перешли к выводам. Славский сказал Жигалину: «Владимир, помнишь, с нас спрашивали не после трех месяцев, а сразу после назначения?» И подвели итоги следующим образом: директор завода доложил неубедительно, завод сорвал третий срок поставки оборудования для атомной подводной лодки. Надо по Долгому принять специальное решение, а Фадеева обязать заниматься этим заказом основательно и вместе со Стекольниковым решить все вопросы по документации в ближайшие дни.
Через несколько дней Алексея Арсентьевича сняли с работы, а меня поставили и. о. директора завода. Директорствовал я примерно месяц. Долгий остался членом парткома завода.
Вскоре вопрос о поставках оборудования для АПЛ заказа 120 рассмотрели на парткоме. Этот заказ оказался самым сложным в истории завода, но и самым счастливым для многих из нас. В работе над его выполнением выросли будущие руководители ЗиО, цехов, отделов. Особенно хочется отметить Владимира Овчара и Леонида Чубаря. Этот заказ поднял технический уровень завода еще на одну ступень.
Работа над ошибками
Пришлось решать много сложных вопросов, связанных с ядерно-энергетическими установками заказа 120 для атомной подводной лодки «Альфа». Документация не всегда была добротной. И это естественно, так как сложнейшие конструкторские решения принимались впервые в мире, и всё создавалось в сжатые сроки под прессом ЦК КПСС и Совета министров. Были и крупные просчеты: в цехе № 7 перепутали трубки обогрева, вместо сплава ЭП-350 рабочие вварили трубки из нержавеющей стали. В этом цехе шло изготовление парогенераторов для АЭС, в которых применялись трубки из нержавеющей стали наружным диаметром 16 мм. Точно такого же диаметра применялись трубки для обогрева оборудования и трубопроводов ядерно-энергетической установки заказа 120, но из сплава ЭП-350. Трубки перепутали ночью, когда контроль становился менее жестким. Ошибка обнаружилась в Северодвинске при стилоскопировании концов труб, выступающих из полностью засвинцованного блока. Дело в том, что трубки из нержавеющей стали могли работать не более 1000 часов, а гарантированный ресурс корабля был 50 тысяч часов, и это время выдерживали трубки только из сплава ЭП-350.
Ситуация, конечно, оказалась чрезвычайной. Назначена была государственная комиссия. Собрались министры: Славский Е. П., Жигалин В. Ф., Бутома Б. Е., зам. главкома ВМФ Котов П. Г. Академику Александрову А. П. предложили руководить комиссией и спасти положение. Но Александров предложил мою кандидатуру, сказав: «Фадеев «напортачил», пусть и разбирается».
Комиссия была солидная: четыре академика и около 30 докторов и кандидатов наук. Заседали много раз, пока не выработали необходимые решения. А они были чрезвычайно сложными и пионерскими (раньше таких решений в мире не было). Энтин Сергей Давыдович и Бекетов Борис Иванович (ЦНИИТМАШ) внесли основной вклад в разработку специального токовихревого миниатюрного датчика. С помощью этого датчика, который отличал сталь ЭП-350 от стали 08Х18Н10Т по их разным магнитным свойствам, удалось проверить и найти, в каких местах произошло перепутывание трубок. Датчик перемещали в трубках внутренним диаметром всего 12 мм с помощью длинного и тонкого металлорукава. Нашли трубки из нержавеющей стали и заменили.
После этих событий Бекетов Б. И. с помощью Кротова В. В. был выдвинут на работу в ЦК КПСС. А сын Энтина С. Д. — Юрий (композитор) подарил мне свою пластинку про трубадура.
Перед комиссией стоял главный вопрос — какой назначить срок эксплуатации лодки с учетом неуверенности в том, что все трубки из стали 08Х18Н10Т удалось заменить на трубки ЭП-350. Был проведен анализ эксплуатации многих подводных лодок и ледокола «Ленин». Вопрос решили.
Второй случай произошел в цехе № 7, когда в нем проходило тензометрирование сварных швов реактора на предмет изучения в них остаточных напряжений. На следующий день после окончания исследования не нашли металлические платики тензодатчиков. Где они? Может быть, остались в пазухах реактора? Засорение реактора могло привести к аварии в эксплуатации. Надо проверить пазухи. А как добраться до них? Пробовали просмотреть через зеркала — ничего не получилось. Вспоминаю, что в Центральную клиническую больницу в Кунцеве из Японии привезли длинный гастроскоп. «Рванул» туда. Проник к доктору медицинских наук и уговорил немедленно поехать со мной на завод. А там уже собралась комиссия: научный руководитель из ФЭИ Громов Б. Ф., капитан первого ранга от военной приемки Лиф Б. А. и директор ЗиО Макаров Е. В. По очереди все осмотрели пазухи в реакторе с помощью привезенного гастроскопа и ничего не обнаружили.
Где платики? Позднее их нашли в куче мусора. Уборщица рано утром зацепила провода и выдернула из реактора. Ей показалось, что это мусор в виде паутины из какой-то проволоки и железок.
Реанимация парогенератора
— В 1974 году в цехе № 3 возник весьма неприятный инцидент. В ночную смену проводилась термическая обработка готового парогенератора в среде аргона, и он «сгорел»: аргон, как защитный газ, в парогенератор не подавался, и внутренние его части из углеродистой стали покрылись толстым слоем окалины. Предназначенный для атомной подводной лодки, был он весьма сложным изделием с циклом производства в несколько лет. Изготовление парогенератора находилось под контролем аппарата Центрального Комитета.
Задержка его изготовления срывала выход в океан к берегам Америки сверхскоростной атомной подводной лодки, включенной в общую стратегию давления на США путем создания ракетной базы на Кубе и обеспечения превосходства в скоростях атомных лодок-истребителей над кораблями противника.
Но мы смогли спасти парогенератор за трое суток. Мы «встряхнули» его взрывом, обмотав детонирующим шнуром, чтобы отбить окалину, а затем удалить её, улавливая при этом все мельчайшие частицы и тщательно их взвешивая, чтобы убедиться, что в парогенераторе окалины больше нет. А на имитаторе мы воспроизвели весь процесс и точно знали, сколько окалины должно быть.
Вспоминаю шутку академиков Игоря Васильевича Курчатова и Анатолия Петровича Александрова. Дни их рождений были близки. И каждый год происходило некое «действо». Анатолий Петрович в шутку дарил Игорю Васильевичу бритву (за роскошную бороду Курчатова звали «Борода»). В ответ Курчатов дарил Александрову расческу (у того волос на голове практически не было).
В институте атомной энергии в Москве, директором был Курчатов, произошел курьезный случай. Придирчивый и очень серьезный начальник пожарной охраны института, как-то, проходя мимо одного из корпусов, заметил в окне на четвертом этаже огонек в то время, когда в институте уже никого не было. Заглянув в комнату, откуда шел свет, пожарный увидел, как рождалась любовь между сотрудниками института. Наутро он написал Курчатову докладную записку об увиденном: «Проходя мимо корпуса № 3, я заметил, что свет не всюду выключен. Проверил и обнаружил, что во внеурочное время «он» и «она» занимались любовью. Прошу Вас принять к нарушителям порядка соответствующие меры». Резолюция Игоря Васильевича была для пожарного ошеломляющей: «Занятие любовью во внеурочное время не представляет пожарной опасности». Записка и резолюция стали постепенно известны широкому кругу сотрудников института. При каждой встрече с пожарным слышался смех, и он уволился.
Встреча с министром
Однажды, когда я исполнял обязанности директора, приехал на завод Ефим Павлович Славский. Пошли с ним смотреть, как сносить главный корпус и строить на его месте новый. Посмотрел и говорит: «Сам сноси эту рухлядь, я твоими сортирами заниматься не буду. Когда площадку освободишь — позвони мне». И уехал.
Затем я сним встречался несколько раз на Научно-технических советах Минсредмаша. Обычно вел НТС академик А. П. Александров, а Славский приходил, сидел с ним рядом и принимал живое участие. Я несколько раз делал доклады при нем. Он меня переспрашивал, уточнял.
Последний раз с Ефимом Павловичем я я встречался на совещании по вопросам пуска атомных электростанций у Алиева, только что назначенного заместителем председателя Совета министров СССР.
Когда Гейдар Алиевич попытался «наехать» на Славского за то, что тот в назначенный правительством срок не пустил на Игналинской АЭС первый блок мощностью 1500 МВт, Ефим Павлович буквально взорвался, встал и направился к Алиеву с кулаками. Сказал буквально следующее: «Щенки. Еще не поняли, как упала повсеместно дисциплина. И что именно из-за вашей бездеятельности творится в промышленности такое безобразие, за которое во времена Сталина просто расстреливали, и даже я, как руководитель крупного комбината, таких разгильдяев выгонял с работы и арестовывал». Далее добавил: «Как можно в срок пускать такие ответственные объекты, когда оборудование поступает поздно и с большим браком, который приходится на месте устранять». По Игналинской станции привел конкретный пример: есть в Ленинграде завод «Электрощит», он поставил шкафы управления без внутренней комплектации с нарушением требований технической документации. Провода пеньковой веревкой перевязаны без каких-либо обозначений и брошены в шкафы, а приборы в отдельном ящике, не прошедшие проверку, как положено по правилам.
Алиев явно струхнул, он знал, что Славский — это «атомные бомбы», и что вхож в любое время к генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу. Алиев сам быстро замял этот скандал и решил государственные вопросы миролюбивым тоном.
Многим нынешним руководителям стоило бы поучиться у Славского. Например, он по выходным дням на самолете облетал свои многочисленные объекты и помогал руководителям решать сложные вопросы. Он был величайшим патриотом своей страны, великолепным организатором и с широчайшими знаниями.