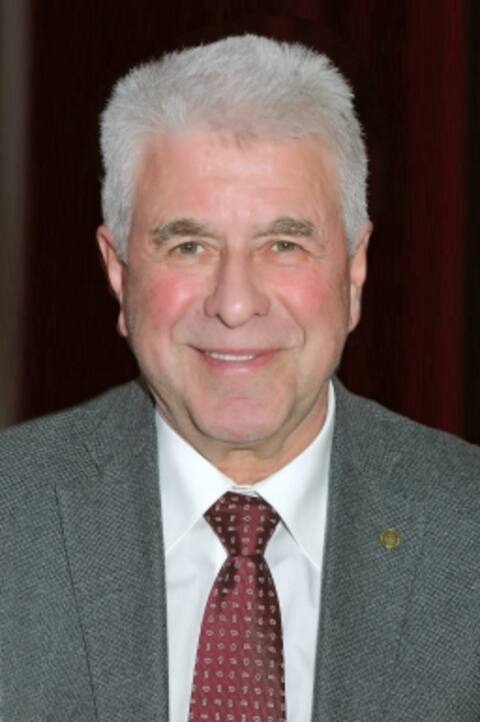Мона Лиза и отдел «З»
В далеком 1970 году, после окончания службы в Забайкальском военном округе, в поисках работы я по рекомендации отца встретился в Минсредмаше с Е. Т. Мишиным. Сейчас, с высоты прожитых лет, я с уверенностью могу сказать, что наша встреча предопределила всю мою дальнейшую профессиональную карьеру. Евгений Трофимович предложил мне работу в тогда уже созданном им отделе «З», который занимался разработкой технических средств охраны.
Отдел возглавлял кандидат технических наук Олег Александрович Столяров, под его началом трудились 45-50 сотрудников. Уж не знаю за какие заслуги, но мне дали должность младшего научного сотрудника с окладом 140 рублей.
Мне предоставили место в комнате площадью 35 кв.м., где, помимо меня, размещались еще 7 сотрудников. Помню, что на рабочих столах у нас не было ничего, кроме горы лент от самописцев, и эти ленты мы, не поднимая глаз, пристально изучали.
Тогда моим непосредственным начальником был Владимир Михайлович Легоньков, который впоследствии стал мне добрым другом и товарищем. Владимир Михайлович только что прибыл из Желтых Вод, где в опытную эксплуатацию был установлен прибор «Радиан А», и привез с собой еще гору таких же лент. Кратко объяснив суть, он сформулировал задачу: на ленте должна быть только прямая линия — и никаких загогулин. Вот так, в борьбе с этими самыми загогулинами, я провел 20 лет, используя весь потенциал знаний, приобретенных на физическом факультете Саратовского государственного университета.
Очень хорошо помню наши первые правительственные задания — в кратчайший срок оборудовать системой охранной сигнализации Алмазный фонд и организовать демонстрацию жемчужины Лувра, картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». О том, как мы работали с этой «девушкой», хочу рассказать поподробнее.
Казалось бы, простая задача — организовать безопасную демонстрацию, но в итоге она превратилась в полноценный НИОКР. Евгений Трофимович создал мощную кооперацию: заводу «Молния» было поручено сделать бронированную кабину, а нашему коллективу — систему поддержания климата. В соответствии с техническим заданием температура должна была держаться в пределах 19-20 градусов по Цельсию, а влажность — не превышать 50-55 процентов; при этом одним из требований французской стороны было четкое и непрерывное фиксирование этих данных на бумажном носителе.
Времени на долгие размышления у нас не было, поэтому мы решили использовать оборудование климатической камеры, что и было с успехом сделано. Окончательная сборка проходила на заводе «Молния». Однако не обошлось без сюрпризов: после сборки на внутренней стороне одного из двух стекол остался отпечаток руки. Разобрать кабину было невозможно, проще сделать новую. Много всего мы перепробовали, благо Бог наделил не только умом, но и смекалкой, — но в итоге ничего не помогло, отпечаток так и остался на стекле кабины как безмолвный свидетель триумфа картины перед московской аудиторией.
Как оказалось, впереди нас ждала еще одна проблема. Ни один проход Пушкинского музея не позволял пронести кабину стоя, поэтому ее внесли в демонстрационный зал лежа. И вот тут-то и возникла главная трудность — как же кабину поднимать. Разместить подъемные механизмы в зале не представлялось возможным. Помогла смекалка О. А. Столярова. Он предложил подложить под кабину резиновую лодку и надуть ее. С использованием такого дополнительного механизма кабину удалось благополучно поднять и поставить.
И вот настал долгожданный момент. Полотно с портретом Моны Лизы было доставлено в музей им. А. С. Пушкина в сопровождении сотрудницы Лувра и хранителя, ответственного за картину. Холст в свернутом состоянии находился в специальной капсуле, обеспечивающей сохранность картины в самых экстремальных условиях, вплоть до авиакатастрофы. Мне посчастливилось присутствовать при вскрытии капсулы и, более того, придерживать холст за кончики, пока хранитель прибивал его к раме золотыми гвоздиками.
После установки картины в кабину по просьбе сотрудницы Лувра мы проверили систему контроля температуры и влажности. Вся информация фиксировалась на ленте самописца в виде двух прямых линий. Чтобы убедиться в работоспособности всех компонентов защиты, сотрудница Лувра открыла боковую дверцу кабины, и в тот же момент стрелки буквально зашкалили, а кроме того, появилась звуковая и световая сигнализация.
После успешного завершения демонстрации картины французская сторона забрала с собой все ленты самописцев. А когда я — уже в 90-х годах — побывал в Лувре, то увидел, что картина и там размещена в специальной кабине за стеклом.
Скажу честно: трудности в работе, конечно же, были. Разве можно прожить жизнь, не сталкиваясь с трудностями, непониманием и другими неурядицами?! Основная трудность для нас была, в первую очередь, в том, чтобы убедить потенциальных заказчиков в необходимости использования технических средств охраны.
Например, в 1975 году был организован выезд специалистов СКБ во главе с Ю. Б. Ивановым в Болгарскую народную республику для реализации проекта оснащения комплекса «Баяна» системой физической защиты (СФЗ). В качестве системы сбора и обработки информации (СОИ) был применен «Тритон», построенный на основе первой интегральной СОИ «Трасса-1». В качестве второго рубежа на периметре использовалось радиолучевое средство «Фобос», разработанное под руководством В. А. Леонова.
В самом начале работы случился забавный эпизод. Когда мы с группой болгарских специалистов обсуждали график проведения работ и материально-техническое обеспечение, на все наши вопросы болгарская сторона дружно кивала головой, что нас очень радовало. Однако в итоге мы поняли, что принятый в мире жест согласия — кивок — у них имеет совершенно противоположное значение.
Тем не менее, практически за один год были завершены все работы, и комплекс был предъявлен к сдаче. Приехавшие Евгений Трофимович Мишин и Александр Иванович Белоносов разработали настоящий сценарий демонстрации, тщательно его отрепетировали, причем мне досталась роль интрудера (злоумышленника), перелезающего через заграждение.
Все прошло на «ура». На следующий день Е. Т. Мишин должен был предъявлять комплекс Тодору Живкову — генеральному секретарю КПБ. Но вдруг, уже поздно вечером, всё информационное табло засветилось тревожной информацией. То, что мы испытали в этот период, трудно описать. Только под утро нам удалось найти причину сбоя: кто-то забыл закрыть люк кабельной канализации, и туда провалилась собака, которая от испуга перегрызла сигнальный кабель. Неисправность быстро ликвидировали, а комплекс успешно сдали, получив высокую оценку руководства Болгарии и лично Тодора Живкова.
Опыт, полученный в Болгарии, был с успехом использован при строительстве комплексов физической защиты Президент-Отеля и Дома правительства в Москве.
За время своей профессиональной карьеры мне посчастливилось участвовать в разработке и внедрении приборов «Радиан» и «Ромб», основанных на применении емкостного принципа обнаружения. Их устойчивая работа в различных климатических условиях обеспечивалась использованием охранного электрода, открытие которого под руководством Ю. К. Свирского обеспечило настоящий прорыв в создании емкостных средств обнаружения.
О будущем атомной отрасли и о своем будущем могу с уверенностью сказать: главное — это не стоять на месте. Без инноваций, без прогресса нет движения вперед. И этого движения не надо бояться.
То, что после Чернобыля и Фукусимы отношение некоторых стран к атомной энергии поменялось, — это факт, не буду его отрицать. Но даже самым ярым противникам, если уж на то пошло, я могу сказать, что атом — это не только АЭС, это и ядерная медицина, и многое-многое другое. И мои слова подтверждает статистика. Взять хотя бы мое родное предприятие, АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»: наши заказы год от года растут, количество партнеров увеличивается, — значит, мы двигаемся в верном направлении.
Работа — работой, но у меня есть твердая уверенность, что у каждого человека должны быть какие-то увлечения. Иногда очень важно отключиться и полностью расслабиться. Кстати, именно в такие моменты вдруг из ниоткуда рождаются решения сложных задач, которые подчас не мог осилить на работе.
Я всю жизнь старался заниматься спортом, выбрал для себя большой теннис и сейчас продолжаю играть, получаю настоящее удовольствие от нахождения на корте.
Благодарю судьбу, что всю жизнь меня поддерживала моя семья. Это давало и дает мне огромный стимул работать и дальше на благо нашей Родины.