Среди смертоносных лучей
В школе я увлекалась художественной самодеятельностью, занимала первые места, читая «Беглеца» Лермонтова. Московская комиссия присвоила мне первое место по Марийской АССР.
Война заканчивалась. Мне говорят: «Для того чтобы стать писателем, надо обязательно объездить весь мир». — «Ах так?! — сказала я. — Пойду-ка я в капитаны». Тогда же можно было поступить в любой институт. И я подала заявление в Одесский институт капитанов водного транспорта (Одессу к тому времени освободили). Но один литовец, который у нас был сторожем, предупредил меня: «Женщина-капитан на корабле — нехорошо. Не надо. Вы себе испортите жизнь. Лучше идите в институт связи, будете радистом — сможете плавать на любом корабле. А женщина-капитан — не пойдет». И я решила поступить в Московский институт связи.
А Московский институт связи в то время находился в Ташкенте. Пока он был в Ташкенте, я училась в педагогическом институте на литературном факультете в Йошкар-Оле, потому что я там жила. Потом институт вернулся в Москву, и меня вызвали.
Поначалу я чуть с ума не сошла, потому что физику и математику терпеть не могла. Но постепенно, вникая, я в них влюбилась и стала отличницей.
Под самый конец учебы нас вызвали в кабинет нашего замдекана Докторовича, и некий майор по фамилии Киселев сказал: «Кто хочет работать в средней полосе России и получать хорошие деньги, пусть заполняет анкету». Нас к тому времени еще не распределяли, мы даже еще не знали, какие нам дипломы дадут. Мы в тот момент вообще ничего не знали. И, конечно, я заполнила анкету. Со мной вместе анкеты заполнили еще пять однокурсников. Так что сразу после института у меня в трудовой книжке появился забавный штамп: «Принята на работу в южно-уральскую контору». И меня отправили на стажировку в НИИ-9 (это Покровское-Стрешнево), в лабораторию Доры Ильиничны Лейпунской.
Под ее руководством мы занялись разработкой радиометрических и дозиметрических приборов и калибровкой. Там я работала до января 1949 года. А в январе у меня случился первый сердечный приступ, потому что я переоблучилась. Мы же градуировали полонием, и я не все знала.
Никакого осознания в первые годы не было. Один наш сотрудник проводил эксперимент с радиоактивным образцом. Взял, засунул пробирку в нагрудный карман и забыл. Поехал домой после работы, у метро «Сокол» упал. Его забрали в милицию, решили, что пьяный (тогда милиция работала строго, не то, что сейчас). Составили протокол, засунули в «обезьянник». Утром наш сотрудник умирает, а дежурный милиционер теряет сознание. Вот такие были случаи, но мы не придавали им значения. Мало ли что могло произойти с человеком в милиции?..
Вот и я — подлечилась и снова на работу. Правда, меня почти сразу отправили на Урал. Привезли сначала в Челябинск, на Торговую улицу (там была конспиративная гостиница), оттуда в Кыштым, а из Кыштыма, сквозь сплошной лес, в Челябинск-40. И в феврале 1949-го началась моя производственная деятельность на плутониевом заводе (или, как его по-другому называют, химическо-металлургическом заводе). Его пустили третьим, потому что сначала пустили первый атомный реактор, наработали плутоний, потом двадцать пятый завод, а на нашем заводе делали окончательный аффинаж.
Поставили меня начальником смены радиометристов. Нам надо было замерять пробы, полученные от химиков. А химики — со знаменитой Сохиной и Фаиной Сегель (Колотинской) — работали в контакте с нами и приносили маленькие металлические тарелочки, которые назывались мишеньками. Мы вставляли их в камеры и замеряли количество плутония. Считалось, что плутоний три и два с половиной сантиметра — пробег неопасный, они теряются в воздухе. А то, что мы вдыхаем его, едим (у нас был ночной буфет), — это никого не касалось. И в результате у меня уже с 1949 года была зафиксирована хроническая лучевая болезнь. Но об этом я узнала по-настоящему только в 1993 году, когда биофизики поставили мне окончательный диагноз. А до этого нам ставили условный диагноз — астеновегетативный синдром. Потом наши карточки терялись, уничтожались.
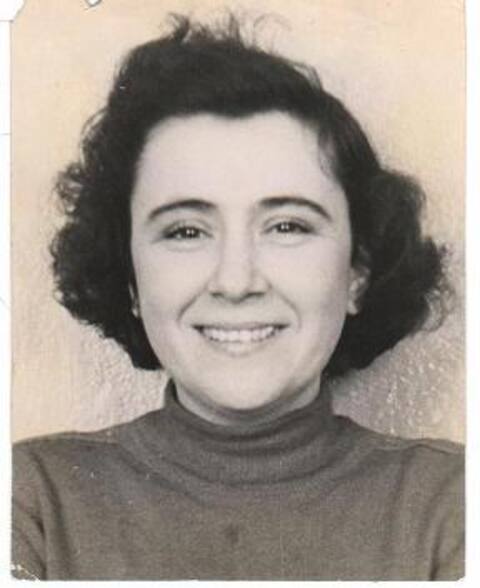
Никаких льгот, ничего. Хасбулатов нас приравнял к чернобыльцам, дал нам удостоверения, но потом МЧС, Минтруд, Минфин нас отбросили, и только Путин немножко что-то вернул. А так на нас вообще плевали.
У меня за время работы на плутониевом заводе было два происшествия. Первое происшествие такое: я беременна, где-то на четвертом месяце, и у нас случился пожар, загорелась наша установка типа Ж. Ночью к нам пришли Музруков со Славским (Борис Глебович тогда был начальником объекта, а Славский — главным инженером) и говорят: «Это что у вас за безобразие?! Женщины в декретах, женщины беременные — все беременные и всем в ночную смену работать нельзя. Работать всем до декретного отпуска в ночные смены!»
Вот мы и работали. Пришла я на вечернюю смену, села за стол. А замначальника лаборатории Александр Тимофеевич Калмыков был очень любознательный и творил какой-то эксперимент, — по-моему, с полонием. Я точно не знаю, с каким радиоактивным веществом. Ну, не с плутонием же — тот очень ценный материал. И рассыпал его на столе, где сидит начальник смены радиометристов. Ложкой смахнул и забыл. Он был рассеянный очень. Потом у него на руке был ожог. А я со своим пузом просидела всю смену. Утром уходить, а меня не выпускают. И три дня не выпускали — мыли. Поэтому у меня первая дочка умерла очень рано, у нее весь организм был разрушен.
У нас — знаете, какой был отпуск? Один месяц до декрета и один месяц после декрета. Так что я свою дочку потеряла. Она по состоянию здоровья была старше меня. Я облучила ее в утробе.
А второй случай был вообще парадоксальный. С работы надо было идти через подземный переход. Около подземного перехода стоит часовой. Там было много часовых. Каждый раз надо было называть пароль, пропуск. Стоит часовой, а я посмотрела на часы и говорю: «Девочки, мы рано вышли: без пяти минут двенадцать». Я же начальник смены радиометристов, моя смена — все женщины. Доходим до основной проходной, всех пропускают, а меня задерживают: «Идите к коменданту. Вы нарушили». — «А что я нарушила? Рано вышли?». Иду к коменданту. «Вы оскорбили часового». — «Как я его оскорбила?» — «Вы сказали: «Что ты стоишь, как немец?». А часовой был башкир, и в моих словах «без пяти минут двенадцать» ему послышалось «что ты стоишь как немец». Два часа разбирались, потом выпроваживают меня на улицу. «Куда я пойду, автобус давно ушел». Комендант отвечает: «Идите куда хотите». И я через лес иду одна до поселка Татыш, это от завода где-то двенадцать километров. Вечернюю смену отработала, завтра в утреннюю. К шести утра пришла домой, успела сказать своим, что жива, — и обратно на работу. В автобусе рассказала всЁ своим, за меня заступилась вся смена, и мне ничего не было.
Правда, и коменданту ничего. А дали б мне волю…
Потом меня перевели инженером по управлению реактором, там я и проработала до отъезда в Обнинск. У меня была инструкция, по которой я должна была подавать определенные команды — конечно, согласовывая их с инструкцией и со старшим инженером. Например, разгрузку, загрузку атомных блочков. Не дай бог что-то перепутать. Я один раз перепутала, и хотя сразу исправилась, меня на две недели отстранили. Нас очень строго экзаменовали. Мы все время пересдавали экзамен.
Что интересно, реактором управляли в основном женщины. Инженерами по управлению были только женщины во время моей работы. В Обнинске были и мужчины. Точнее, здесь лишь одна женщина была, Тая Колыженкова. А на «Маяке» инженерами управления работали женщины: война только закончилась, мужиков подготовленных не было. Отсюда, наверное, и жесткость по части декретов, потому что с женщинами такие вещи как беременность случались регулярно — в особенности после войны.
В 1949 году, когда мы выходили на максимальную мощность, приехали Курчатов и Берия. Приходили они и в нашу лабораторию. Берия тогда был совсем не таким, каким его сегодня изображают. Весь замученный, не выспавшийся, с красными глазами, с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. Работа, работа, работа. На нас, красавиц, даже не глядел. В первый день приехал, вышел из машины и попу трет: «Какие у вас паршивые дороги!» На другой день приходит — хромает: лег спать, а под ним сетка провалилась кроватная. И никого за это не посадили.
А потом сдавали в Течи первый деревянный театр. (Челябинск-40 — это поселки Татыш и Течь, старинные русские поселения, между ними сколько-то километров). Все съехались: расконвоированные заключенные, заключенные под конвоем, ИТР, охрана, Музруков и Берия собственной персоной. Его шофер дремлет, а задрипанный плащ Берии — тот же самый, в котором он в первый раз приезжал — лежит в машине. Торжества кончились, Берия возвращается к машине, а плаща нет. Подрезал кто-то. И тоже никого не посадили. Такое впечатление, что ему вообще было на все наплевать, кроме работы.
А с Курчатовым я играла в карты в коттедже на берегу озера. (Славский построил два коттеджа: один для себя, другой для Курчатова. Потом, во времена Хрущева, их снесли, сказали что ай-ай-ай, отрыжки культа личности, как нескромно). Я, кстати, даже не помню, по какому случаю Игорь Васильевич нас, человек десять, пригласил к себе: какой-то сабантуй по поводу очередного великого достижения. Выпили вина, поиграли в подкидного, всё очень мило. Игорь Васильевич был вообще удивительный, обаятельнейший человек. Он со всеми на равных общался. Никогда не ставил свою персону выше других и шутил бесконечно.
Благодаря Курчатову, кстати говоря, нас с мужем перевели в Обнинск. У меня дочка болела страшно. Меня с ней направили в Челябинск к невропатологу, положили в клинику. Я посмотрела, а там такой ужас, такое запустение, и самовольно удрала в Москву. Меня предупреждали, что это нарушение режима, что подойдут двое в черном и арестуют. Но никто не подошел. Я положила ее в Филатовскую клинику, там сказали: «Вам надо срочно менять место жительства». У нее были судороги, припадки, она умирала, я ее несколько раз на руках мертвую держала. Ужас, что было. Мой муж пошел к Музрукову, и Музруков разрешил мне пребывание в Москве. Хороший был дядька. А Курчатов как раз тогда подбирал кадры для будущей атомной станции. И он настоял, чтобы нас перевели в Обнинск.
Здесь меня очень любезно встретил замдиректора ФЭИ Андрей Капитонович Красин и предложил должность начальника сектора госповерки. Так я в очередной раз поменяла профессию и стала метрологом. А закончила свою карьеру в ФЭИ начальником сектора поверки и метрологического надзора.
Так вот, приезжаю в Обнинск и слышу: Лейпунский, Лейпунский. Все хочу с ним встретиться, а мне говорят: «Он занят». Однажды на прогулке мне попадается Володя Колесников (это мой киповский коллега, теперь Владимир Дорофеевич) и говорит: «Вон твой Лейпунский на коровьем пляже лежит». Подхожу: он лежит под зонтиком, в трусиках (я потом нашла похожий снимок в интернете). Я говорю: «Здравствуйте! Вы Лейпунский?» Он отвечает: «Кажется», — и смотрит на меня. — «А вы кто?». Я представилась. «И что вы от меня хотите?» — «Я хочу узнать, где ваша жена». Он даже сел: «А зачем вам моя жена?» — «Как зачем? Я с ней работала». — «Еще интереснее! Где работали? В Москве? Не может быть. А как звали мою жену?». Я возмутилась: «А что, вы не знаете, как зовут вашу жену?!» Он говорит: «Откуда я знаю, на ком вы сегодня решили меня женить!» Он был с юмором. Я говорю: «Меня интересует Дора Ильинична Лейпунская». Он как захохотал: «Так бы и сказали. Вы меня решили женить на моей сестре». Я опешила: «Я могу увидеть Дору Ильиничну?» Он сказал: «Нет, она уже не в НИИ-9».
Да, Дора Ильинична оказалась его сестрой. И потом, когда он меня встречал, он всегда так мило улыбался, никогда не проходил мимо.
Однажды я пришла к Красину. Моя задача была — зарегистрировать ФЭИ на проведение права монопольной госповерки. Это давалось только режимным предприятиям. И принесла протокол о том, что вот в таких-то подразделениях, в частности, у Кузнецова и еще у кого-то, стоят незаконные, неповеренные приборы. И все время повторяю: незаконные приборы, отклонение от закона, незаконные действия, действия не по уставу. Я ухожу, а Александр Ильич так загадочно улыбается и говорит: «Неля Михайловна, постойте. Возьмите на память», — и протягивает листок бумажки. А на листке нарисован огромный столб во всю высоту А4, на столбе написано «закон», а вокруг этого столба на поводках две собаки, которые задирают ноги, и написано «отклонение от закона». Вот такие приключения у меня с Лейпунским. Человек, великий во всем, и юмор такой.
С Усачевым тоже была оригинальная встреча, немножко не такая веселая, но интересно. Помните, он провалился? Вообще в ФЭИ любили спорт необыкновенно, особенно альпинизм. И мое первое впечатление от ФЭИ: захожу в мае 1953 года в вестибюль ФЭИ, а там висит огромный некролог на Романовича: разбился в горах.
Усачев тоже провалился на Памире в расщелину. Его спасло только то, что рюкзак зацепился за стену трещины. Он провисел там целые сутки. Его спасли немецкие альпинисты. Но он обморозил себе ноги, кисти рук; печень была в ужасном состоянии. Московские врачи вытащили его с того света.
По случаю его выздоровления и выхода из больницы наш отдел, отдел химиков и теоретический отдел, который Усачев возглавлял, решили устроить вечер.
Вечер должен был проводиться в столовой № 1 — это там, где начиналась самодеятельность, когда еще не было ФЭИ. И вот все пришли, а Усачева нет и нет. Я должна была вести этот вечер. Усачева нет, мы не садимся за столы. На лестнице образовался как бы почетный караул в ожидании Усачева.
Наконец он появился, скрипит протезами. Наступила какая-то непонятная тишина. То ли орать «ура», то ли как-то не по себе. Идет и скрипит новыми протезами, которые сам себе изготовил. Ему одну ногу ампутировали до колена, на другой срезали пятку, и пальцы на руках тоже ампутировали.
В это время из толпы весело, с улыбкой вылетает Нина Смирнова-Аверина, подскакивает к нему — он тоже ей весело улыбается, как будто встретились на свидании, — хватает его руку, начинает сравнивать со своими культяпками (у нее руки пострадали во время химического опыта) — как будто перчатки меряет или друг друга ласкают, и оба весело улыбаются. И всем стало так здорово, все завопили: «Ура! Браво! Здравствуйте!». И начался вечер. Совершенно изумительный, прекрасный вечер. Потом объявили конкурс плясок. У меня кавалером был Боря Бабаев (копия Филиппа Жерара — красивый дядька, умер рано, молодой, намного моложе меня). И мы с ним так здорово танцевали, а Усачев нам прихлопывал и притопывал.

Потом я задружилась со всей семьей Усачева из-за любви к собакам. У них был замечательный пес, ирландский сеттер, которого звали Дар. Не без усилий его старшей дочери Татьяны моя овчарка Альма родила от Дара троих щенят, черных. Овчарки в образе сеттера. Густота шерсти, как у овчарки, а длиннота, как у сеттера, и вот такие уши. И родились у меня Миша с Мартиком, мои любимые собаки, которые изменили траекторию моей жизни, потому что я попала в опалу из-за одной истории.
Здесь, в Обнинске, стали убивать бродячих собак на глазах у детей и взрослых. Это в 1978 году, с января по апрель. И я написала своему другу Сергею Образцову — народному артисту, создателю Театра Кукол — про это скверное дело. И он, не спрашивая моего разрешения, опубликовал статью «Добрые слезы», где позволил себе такую фразу: «А в городе Обнинске должностные лица что-то вроде выродков, мимо них прошли Каштанка и Муму, задели честь мундира Ивана Васильевича Новикова».
Иван Васильевич Новиков был у нас первым секретарем горкома, за глаза его звали «Грозный». Так что можете себе представить, какую бочку покатила на меня Марья Федоровна Юсупова, второй секретарь горкома по идеологии.
Меня вызвали на комиссию в горком. Юсупова стала задавать мне вопросы: «Почему вы отправили письмо не почтой, а через московскую подругу?» — «Так быстрее». — «Запишите: Эпатова подвергает сомнению секретность переписки в Советском Союзе. Почему Вы утверждаете, что даже при царе, прежде чем убивать, собак держали две недели?». Я говорю: «Потому что был такой закон. Он и сейчас есть, а его нарушают». — «Напишите: Эпатова утверждает, что буржуазная власть гуманнее советской». — «Ах так?! — сказала я. — Значит, вы мне клеите пятьдесят восьмую статью? До свидания».
На другой день секретарь парторганизации ФЭИ Камаев потребовал, чтобы я пришла к нему в кабинет переговорить с Марьей Федоровной Юсуповой. Я отказалась, и на меня покатили бочки уже из родного парткома. Я разозлилась и ушла с работы в пятьдесят четыре года. Вот такова собачья история.
Зато у меня наконец-то появилась возможность посвятить себя любимому делу — литературе. И на сегодняшний день, простите за нескромность, я автор двадцати трех книг. А вы сколько написали?..
