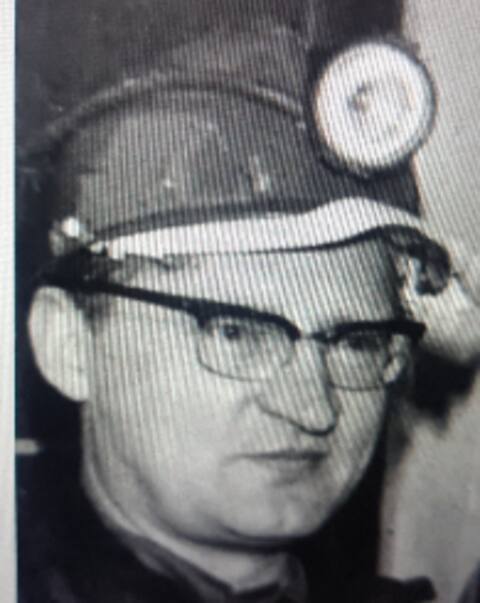Жизнь под грифом «секретно»
Я был в числе студентов первого официального набора на ядерную специальность физико-технического факультета Томского политеха. До 1954 года туда принимали не по конкурсу, а переводили лучших студентов с других технических факультетов. Я блестяще сдал вступительные экзамены. Но была одна проблема — семейная история. Мама — рабоче-крестьянского происхождения, работала бухгалтером, а вот из-за семьи отца могли возникнуть трудности. Он был товароведом и, хотя в партии не состоял, считался вполне благонадежным. У отца было три брата. Старший — член религиозной секты баптистов, средний — в прошлом белый офицер, младший — рьяный коммунист. Когда в Сибири шли бои между белыми и красными, оба моих дядьки в одно время оказались в Минусинске и участвовали в побоище на Сретенской площади. Друг против друга воевали. До поступления в вуз я об этом почти ничего не знал, в семье разговоров на неудобные темы не вели, политики тоже старались не касаться. Родители выписывали газету «Сталинские внучата», однако меня больше интересовало чтение другого толка. От дяди-белогвардейца осталась книга «Великая реформа», вышедшая к 50-й годовщине отмены крепостного права, 22 тома Большой энциклопедии 1896 года, дореволюционное издание «Галерея русских писателей», подборка журнала «Нива», Бунин, Куприн и запрещенный тогда Надсон. Но больше всего меня заинтересовала книга «Копи царя Соломона». Текст с ятями, читать было непросто, зато какие там были иллюстрации! Были в семейном архиве и фотографии дяди. Отец их чужим не показывал, но и не избавлялся. "Воронок" на нашу улицу наведывался регулярно, мать ночами тряслась от страха — думала, что отца заберут. Но обошлось. Всю эту информацию в анкете для вуза я не указал. Написал, что ничего не знаю о родственниках со стороны отца. Меня зачислили.
В 1959 году меня направили на преддипломную практику на реакторный завод Сибирского химкомбината, где я набирал материал для дипломной работы. А через год в трудовой книжке появилась первая запись: «Принят на должность инженера производственно-технического отдела СХК». В это время на объекте были два промышленных реактора: проточный И-1 для наработки плутония и двухцелевой ЭИ-2, который производил еще и электроэнергию. ЭИ-2 запустили за год до моей практики, но я, даже будучи студентом физтеха, об этом знаковом событии знать не знал. Много позже наткнулся на газету «Правда» за 1958 год, где была заметка о пуске первой в СССР промышленной атомной станции мощностью 100 тыс. кВт. О реакторе там, конечно, не было ни слова, как и о месте нахождения АЭС. Я сделал фотокопию страницы, и когда коллеги с других предприятий задавали неудобные вопросы, на которые я бы и хотел ответить, но не имел права, та заметка позволяла красиво выйти из положения. Я показывал ее всем любопытным. Я жил в секретности до 1990-х годов, пока на СХК не остановили реакторы. Даже жена не знала, чем я занимаюсь на работе. Хотя мне было проще, чем коллегам: жена тоже работала на комбинате, но на химико-металлургическом заводе, и была связана обязательствами о неразглашении. С вопросами о работе мы друг к другу не приставали.
В середине 1960-х на СХК ходил анекдот, основанный на реальных событиях. Начальник технологической лаборатории писал кандидатскую диссертацию «О дислокациях, возникших в германии при облучении в ядерном реакторе». Машинистка слово «германии» напечатала с заглавной буквы. Инженеры рассказывали анекдот друг другу, давясь от хохота, а безопасникам такая неосведомленность машинистки была как бальзам на душу. Какой там германий — старались, чтобы младший персонал не знал значения слов и попроще. Химические элементы мы даже в таблицах обозначали другими индексами, специально для шпионов придумывали легенды. Если в телефонном разговоре звучали слова типа "нейтрон", "уран" или "плутоний" — сразу сигнализация. Засекали. Разъяснительную работу вели сотрудники секретного отдела комбината или КГБ. Для планерок у нас была защищенная линия связи, чтобы говорить без купюр; но мы настолько натренировались, что все равно запретных слов не употребляли.
Первые годы на производстве стали настоящей школой терпения. Молодые инженеры наряду с опытными коллегами отлаживали работу реакторов, не все шло гладко. Эксплуатационный персонал, исследователи, научные работники столкнулись с серьезными проблемами: течи технологических каналов нового ЭИ-2, зависание урановых блоков, сбои системы разгрузки и главных циркуляционных насосов. Было много кратковременных остановок. В реакторе 2 тысячи каналов; если снижается расход топлива хотя бы в одном, реактор останавливается. Если через 30 минут его не вывести на мощность, то он встанет надолго, такова физика. Первый начальник АЭС Андрей Варченко в самые сложные моменты пытался шутить и предлагал реакторщикам отключить реактор насовсем.
В студенческие годы я мечтал быть оператором, управлять реактором. Но когда получил эту должность, понял, что работа монотонная и скучная, быстро остыл. Начальство направило на курсы повышения квалификации в Институт атомной энергии в Москву. Лекции читали звезды ядерной физики: Анатолий Александров, Савелий Фейнберг, Валентин Федуленко. Главный инженер комбината Михаил Демьянович постоянно меня в шутку распекал: «Смотри, у тебя реактор то один, то другой стоит. А тебя ведь такие люди учили!». В начале 1960-х мы страдали от «козлов». Так называли поломку, когда нарушается теплоотвод в урановых блоках и они остаются без охлаждения. Уран и алюминиевая оболочка свариваются с графитом, реактор останавливается. Пока все это не рассверлят и не вытащат, работать нельзя. Мы неделями из-за этого стояли. Михаил Демьянович до того, как попасть к нам, участвовал в пуске первого промышленного реактора А-1 в Челябинске-40. В Северск его отправили в ссылку после аварии. Но именно по инициативе главного инженера на СХК были созданы основные положения безопасной работы персонала. Он старался предостеречь нас от любых ошибок. С нами, работниками технического отдела, много возился.
В 1965 году на СХК работали уже пять реакторов. Радиохимический завод вышел на производственную мощность. Начался выпуск специзделий, членов коллектива представили к правительственным наградам. Тогда я получил свою первую медаль «За трудовую доблесть». В 1972 году меня назначили заместителем главного инженера комбината по производствам. Предстояло решать вопросы, связанные с работой реакторных заводов, теплоэлектроцентрали, цехом сетей и подстанций. На этом посту я проработал больше 20 лет. Был инициатором строительства на СХК газотурбинной станции — независимого источника электроэнергии, что считаю одним из самых важных достижений в своей карьере. До 1970-х годов реакторы комбината получали электроэнергию от собственной ТЭЦ и из соседних Кемерова и Томска, но этих мощностей едва хватало. Собственная газотурбинная станция сделала работу реакторов безопаснее, исключила риск аварий из-за сбоев в энергоснабжении.
В начале 1990-х годов я участвовал в выводе из эксплуатации реакторов комбината и искал способы перевода оставшихся в эксплуатации на многоцикловое использование природного урана. Много лет был председателем государственной экзаменационной комиссии в Томском политехническом университете, оценивал дипломные работы учащихся по специальности «ядерные реакторы и энергетические установки».